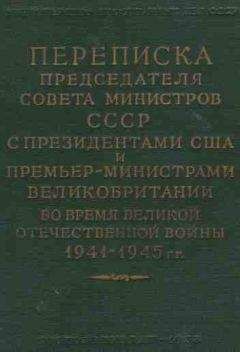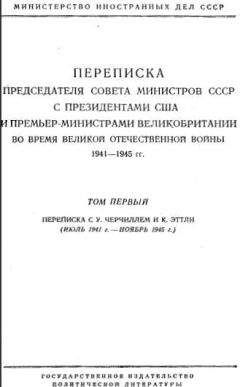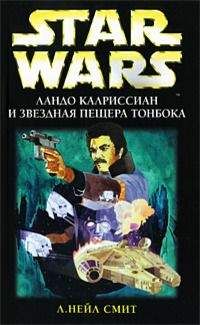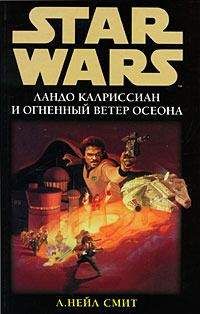Азеф был совсем разбит и расплакался, не зная, как спастись.
Но Герасимов не мог представить, что могло заставить Лопухина «преступить долг и пренебречь сохранением служебной тайны».
— Это недоразумение, — сказал Герасимов. — Этого не может быть. Вам надо пойти к Лопухину и выяснить с ним все дело. Вместе все уладите.
Азеф продолжал всхлипывать. Для него, по-видимому, все было кончено. Уже выйдя из игры, он был настигнут расплатой, которой боялся много лет. Зачем идти к Лопухину? Что это даст?
Но Герасимов настаивал, и Азефу ничего не оставалось, как согласиться.
Герасимов, волнуясь, ждал его возвращения. Нет, он верил Лопухину, но вдруг?
Азеф пришел еще подавленнее, чем прежде. Лопухин не стал с ним разговаривать, не пустил дальше прихожей.
— Он выдаст меня, — твердил Азеф.
Герасимов, однако, еще не верил и решил сам пойти к Лопухину.
Пришел уже в сумерках, вошли в кабинет. Герасимов сказал, что озабочен делом Азефа. Лопухин не стал лукавить, назвал Азефа негодяем и добавил, что для него не будет ничего делать. Но Герасимов не оставлял надежды убедить бывшего сослуживца, напомнил, что Азеф спас тому жизнь и что у Азефа есть жена и дети.
Лопухин при упоминании о детях взволновался, но ответил, что Азеф вел преступную двойную игру, предавая всех, а теперь пора положить конец этой лжи и предательству.
Что было делать Герасимову? Он понял, что Азеф прав, тем не менее с чиновничьей настойчивостью продолжал уговаривать собеседника. Теперь это были другие аргументы, служебная тайна, долг, ответственность, бремя вины за предстоящее убийство Азефа. И последнее: неужели вы будете участвовать в революционной кровавой расправе?
Надо учесть, что это говорит представитель спецслужб (по современному определению) с отступником. И у него не появляется даже мысли, что можно использовать силу, пригрозить арестом, а то и физическим уничтожением. Мы, конечно, помним убийство Черняка тайным агентом Викторовым, но там устраняли террориста. Там — необъявленная война. А здесь— разговор своих, другие правила.
Лопухин все-таки не уступил. Почему? Герасимов предполагал, что он «зашел слишком далеко, но уже не мог вернуться назад».
На прощание Лопухин заявил, что перед революционным судом не появится; но если его спросят, скажет об Азефе правду.
Герасимов, убедившийся в решении Лопухина предать Азефа, больше не пытался изменить ход событий. Ареста не последовало.
Герасимов дал Азефу фальшивые паспорта, деньги и простился навсегда. (Азефу удалось скрыться, он поселился в Берлине под именем Александра Неймайера, купца, и прожил там остаток жизни.) Лопухин же после встречи с Герасимовым стал готовиться к поездке за границу. Почему он пытался избежать встречи с похитителями дочери? Неужели, дав им слово, не хотел его нарушать? Думается, объяснение лежит в другой плоскости: он знал, что в случае обмана не сможет укрыться от их мести.
Герасимов докладывал Столыпину каждый день и, понятно, не скрывал от премьера и разговора с Лопухиным. Наверняка они обсуждали возможные последствия эсеровского суда над Азефом. Выпускать ли Лопухина? Что вскроется на суде? Кому это выгодно? На эти вопросы надо было отвечать.
По-видимому, они решили не препятствовать Лопухину, ибо результат суда можно было использовать как доказательство мощи государства и бесперспективности террора. (Судьба бывшего агента при этом, конечно, не учитывалась.)
Лопухина не удерживали, только приставили к нему наблюдение, и вместе с внимательными попутчиками-соотечественниками он прибыл в Лондон, где встретился с членами ЦК партии эсеров Савинковым, Черновым, Аргуновым (Вороновичем). Теперь в его предательстве не сомневались. Он особо и не таился, послав Столыпину письмо, в котором обвинял Герасимова в моральном насилии и просил оградить семью от полиции.
Вскоре в печати появился приговор ЦК «предателю и провокатору» Азефу, и вся Европа с упоением читала в газетах статьи о небывалом коварстве российской полиции.
Но, начав кампанию по разоблачению руководителя боевой организации и члена ЦК Азефа, эсеры быстро поняли, что ведут кампанию против себя. Несколько террористов даже покончили с собой. Можно попытаться их понять, этих выломившихся из обычной жизни людей, тешившихся иллюзией собственной исключительности. Какими бы убийцами они ни были, в действительности они не могли считать себя таковыми. Теперь их «героизм» оказывался всего-навсего фарсом, разрешенным тайной полицией. Возможно и другое предположение: самоубийцы могли быть осведомителями менее крупного уровня, чем Азеф, но испугались разоблачения.
Расследование Бурцева нанесло партии эсеров тяжелый удар. Надо было как-то объясняться с русской общественностью.
Между тем Лопухин вернулся в Россию как ни в чем не бывало и не делал никаких попыток оправдаться. С ним тоже надо было что-то делать.
Заметим, что во всей этой истории с обеих сторон, несмотря на необъявленную войну, проявилось много какой-то патриархальности. Эсеры судят Азефа, но не пытаются его задержать. Герасимов уповает не на силу, а уговаривает Лопухина не выдавать агента. Лопухин не старается избежать наказания и укрыться. Бурцев публикует обличения, не думая о последствиях. Если вспомним поведение самого Столыпина перед полетом на аэроплане капитана Мациевича, то картина получится достаточно полной.
Итак, Лопухин вернулся. Факт измены налицо, и теперь можно было производить арест. Через несколько дней Лопухина арестовали: после того, как Николай велел начать судебное преследование. Государь император, которому Столыпин вынужден был доложить и про Азефа, и про поездку Лопухина в Лондон, был взбешен.
В феврале 1909 года Лопухина приговорили к четырем годам каторги за разглашение служебной тайны и сотрудничество с эсерами. О похищении дочери он не сказал и в глазах либеральной публики выглядел героем, боровшимся с царскими сатрапами. Сенат смягчил приговор, заменив каторгу пожизненной ссылкой. Через четыре года он после амнистии в честь трехсотлетия династии вернулся в Петербург. Впрочем, драма Лопухина прошла для истории незамеченной, заслоненная шумной кампанией против правительства, развернувшейся в России из-за раскрытия Азефа.
Еще до ареста Лопухина в «Юманите» писалось: «Очевидно, правительство чувствует себя виноватым в деле Азефа, т.к. не решается задержать Лопухина. В любой стране государственный чиновник, выдавший вверенную ему служебную тайну, был бы немедленно арестован и соответственно наказан».
В Думе социал-демократы и трудовики сделали запрос, в котором прямо говорилось, что полиция сама организовала террор через своих агентов «в целях усиления реакции и для оправдания исключительных положений».
Октябристы заявили: «Благодаря делу Азефа партия социал-революционеров потерпела страшное поражение, и теперь она хочет выместить свою злобу».
Столыпин 11 февраля выступил в Думе с большой речью, отвечая на запрос. Прежде всего он сказал, что само определение «провокация» в деле Азефа не применимо, его используют революционеры для собственной выгоды.
«Правительство должно совершенно открыто заявить, что оно считает провокатором такое лицо, которое само принимает на себя инициативу преступления, вовлекая в эти преступления третьих лиц... Точно так же трудно допустить провокацию в среде закоренелых революционеров, в среде террористов, которые принимали сами участие в кровавом терроре и вовлекали в эти преступления множество лиц...
Кто же такой Азеф?..
В числе сотрудников (полиции) Азеф был принят еще в 1892 году... Конечно, временами, когда Азефа начинали подозревать в партии или после крупных арестов, которые колебали его положение, он временно отходил от агентуры, но потом опять приближался к ней.
Вот, господа, после выяснения отношения Азефа к службе розыска и революции, позвольте мне перейти к террористическим актам того времени... Все данные департамента полиции с большой яркостью указывают на то, что главари революционных организаций для того, чтобы укрепить волю лица, непосредственно исполняющего террористический акт, для того, чтобы поднять его дух, всегда сами находятся на месте преступления. Так, Гершуни был на Исаакиевской площади во время убийства егермейстера Сипягина (министр внутренних дел. — Авт.). Он был на Невском рядом с поручиком Григорьевым во время неудачного посягательства на обер-прокурора Победоносцева. Он был в Уфе во время убийства губернатора Богдановича, он сидел в саду «Тиволи» в Харькове во время покушения Фомы Качуры на князя Оболенского и даже подтолкнул его, когда заметил в последнюю минуту с его стороны колебание.
Точно так же Борис Савинков во время убийства статс-секретаря Плеве и великого князя Сергея Александровича, во время замышлявшегося покушения на генерала Трепова и во время метания бомб в Севастополе на Соборной площади в генерала Неплюева был на месте преступления. Поэтому, изучая отношение Азефа к преступным деяниям, необходимо наряду с другими обстоятельствами иметь в виду и этот террористический прием, обычный и, очевидно, свойственный руководителям террористических актов в России.