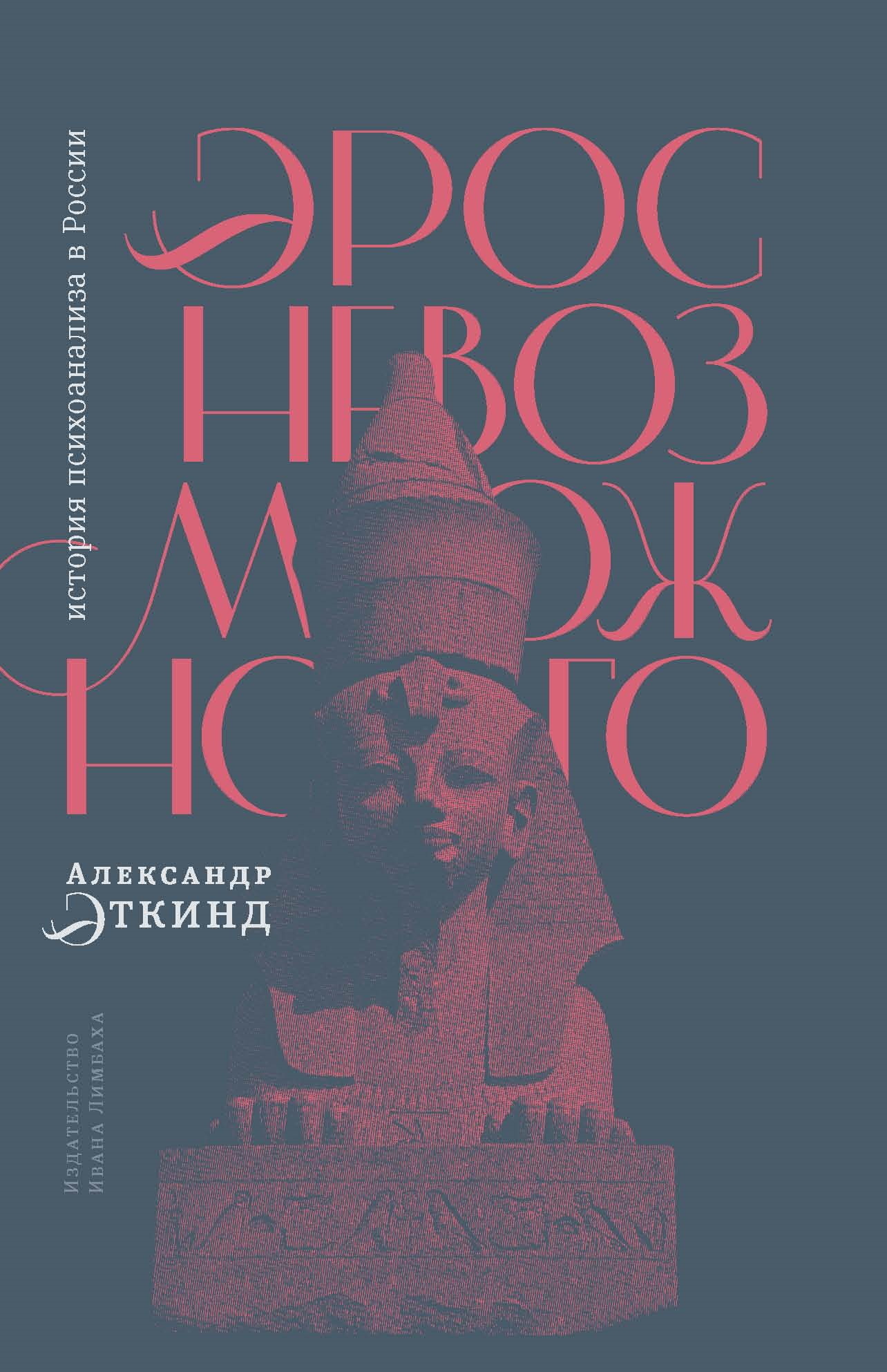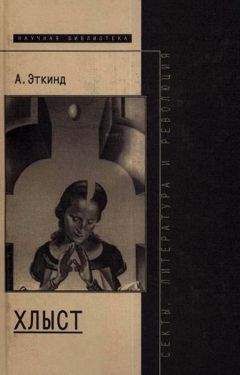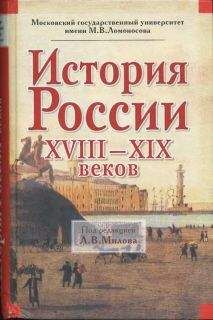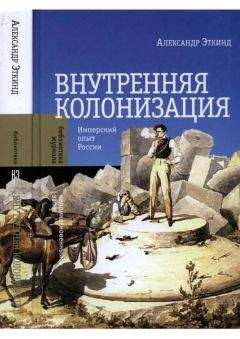не нравилось ей то, каким образом Ильин проявлял свою «способность ненавидеть, презирать, оскорблять идейных противников», среди которых Герцык перечисляет Вяч. Иванова, Бердяева, Волошина и Белого: «…с неутомимым сыском Ильин ловил все слабости их, за всеми с торжеством вскрывал „сексуальные извращения“». Особенно не любил Ильин, похоже, Вячеслава Иванова; о скандальной сцене между ними выразительно рассказывает дочь последнего: «…откуда ни возьмись появился Ильин и начал вопить что-то совершенно непонятное в сторону Вячеслава. Казалось, что у него на губах пена, он весь извивался, как в конвульсиях».
Враги, впрочем, отвечали ничуть не менее жестко. Белый, например, описывал Ильина так: «…молодой, одержимый, бледный как скелет…по-моему, он страдал душевной болезнью задолго до явных вспышек ее;…ему место было в психиатрической клинике». Даже куда более спокойный Бердяев в отзывах о нем терял равновесие: «Мне редко приходилось читать столь кошмарную и мучительную книгу, как книга И. Ильина».
По словам Герцык, в личном плане молодого Ильина отличала «ненависть, граничащая с психозом», которую она объясняла тем, что Ильин с юности лишал себя всего на свете, и в частности «всех видов сладострастия», ради отвлеченной идеи. Каково бы ни было, однако, происхождение его ненависти, она воспринималась современниками даже в его философских сочинениях. Одной из основных мыслей Ильина была оправданность и необходимость «сопротивления злу силой», и он посвятил этой этической концепции немало горячих страниц. Его идея вызвала, однако, скандал среди интеллигенции, воспитанной на проповеди Толстого.
Никакой внешней причины для ненависти у Ильина не было, замечала с удивлением Лидия Иванова. Тем более весомыми могли быть внутренние причины. Книги и дошедшие до нас записи лекций Ильина показывают, что его агрессия по отношению к мистицизму Иванова и антропософии Белого была хорошо продумана и профессионально аргументирована. Находясь под влиянием психоанализа, философ формулировал свою критику в терминах, которые безошибочно распознаются как аналитические. Антропософы, говорил Ильин в 1914 году, «любят прикрываться словом „наука“, а на самом деле проповедуют некую, якобы мистическую, душевную практику. В этой сумеречной душевной практике… разумная жизнь духа растворяется в культивировании наиболее физиологических сторон и способностей души. Их „наука“ есть магия, а содержание их „учения“ – смутная химера. „Антропософ“ старается магически овладеть тайной своей личной бессознательной сферы и вступает для этого в практическое жизненное общение не с предметом, а со своим собственным бессознательным. Это общение погружает центр его личной жизни в непонятную для него глубину его родового инстинкта, и совершается это не ради знания: как истинный „маг“, антропософ ищет не знания, а господства, власти над непокорной и несчастной стихией своего существа».
Для Ильина то, что антропософы и прочие мистики называли оккультным, «не скрывает за собой ничего, кроме родовых содержаний бессознательного». Имея в виду психоанализ, Ильин писал об антропософах, что они «не знают, что научный опыт проник дальше их и глубже их в жизнь бессознательного и… что самая „тайна“ их таинственной практики уже во власти науки».
«Особое очищение ума и души» требует постоянной внутренней работы, и человечество, подобно отдельному человеку, «долго и мучительно отыскивало верные пути к такому очищению». Описывая эти пути, Ильин выстраивает длинный ряд – начиная с йогов через Пифагора, Декарта и Спинозу вплоть до «осторожного и зоркого Зигмунда Фрейда». Психоанализ Ильин характеризует как «метод, которым человек может не только исцелить и очистить свое бессознательное, но и сообщить своему духу органическую цельность, чуткость и гибкость». Этим психоанализ может помочь философии, которой грозит опасность «давления бессознательной сферы во всей ее утонченности, страстности и трудноуловимости», что делает душу философа недоступной для познания. «Все те ранения душевной жизни, которые у каждого приобретаются с детства и живут, неисцеленные, всю жизнь, нередко разъедая душу и повергая ее во всевозможные психозы и нейрозы… делают душу мало способной к предметному опыту и исследованию».
Считавшийся в те годы гегельянцем, Ильин, похоже, видел в психоанализе необходимое средство философии. «Орудием философского познания является живое существо самого философа». «Философ более, чем всякий другой ученый, должен овладеть силами своего бессознательного», – учил он. Философ, не прошедший долгой и мучительной работы очищения души, способен лишь к «более или менее удачному компромиссу между запросами личного бессознательного и сознательной идеологией».
В 1921 году Иван Ильин был избран председателем респектабельного Московского психологического общества. Вскоре, однако, осенью 1922 года, он был выслан из России вместе с двумя десятками крупнейших русских философов и писателей. Ильин опубликовал в эмиграции множество книг, и среди них фундаментальные «Аксиомы религиозного опыта». Психоанализ в них обходится молчанием, впрочем, так же, как и неогегельянство. Лишь однажды он неодобрительно высказывается по поводу юнговской идеи коллективного бессознательного, которая, с его точки зрения, нарушает суверенитет индивида. Апологетическая биография Ильинао психоанализе даже не упоминает. Среда белой эмиграции вряд ли благоприятствовала анализу. Но в личных беседах Ильин, похоже, позволял себе проявлять свои необычные интересы. Так, в 1931 году Иван Бунин записал о нем в своем дневнике, что «он теперь и русскую революцию по Фрейду понимает».
Психоанализ против антропософии
В своих мемуарах Белый писал, что с 1915 года Метнер стал для него врагом, и поэтически уподоблял гробам «разделившие нас идеологии, о которые разбилась прекрасная дружба». Послевоенная «идеология» Белого хорошо известна: это антропософия, новое учение Рудольфа Штейнера, соединявшее модный мистицизм с не менее модным наукообразием. А каким Белый видел идеологический «гроб», в котором похоронил себя Метнер?
Скорее всего, психоаналитическим. Весьма вероятно, что он интерпретировал свою ссору с Метнером и Ильиным, которые находились в это время в анализе, как последствия дурного влияния психоанализа, свидетельство его враждебности и чужеродности. В декабре 1914 года Белый записывал в дневнике: Метнер «много говорит мне о своей дружбе с Ильиным; и как будто даже угрожает Ильиным; все это лишь разжигает во мне пафос к атаке… Метнера». Тогда же Белый замечает, что «Метнер разительно изменился; постарел, стал внутренне угрюм; неоднократно заявлял, что стал завзятым поклонником Фрейда и Юнга, что „психоанализ“ в него прямо вписан; этот „фрейдизм“ отталкивает решительно от меня Метнера; воспринимаю эти увлечения Метнера враждебно».
Поклонение Ницше (с 1902 года он работал над его биографией) не мешало Метнеру, как вспоминал Андрей Белый, постоянно подчеркивать опасность мистицизма и «неизбежное перерождение в мистику иных нот романтизма». Повидав основоположника антропософии Рудольфа Штейнера в 1909 году, Метнер был настроен решительно: «Это какой-то теософский пастор, выкрикивающий глубокие пошлости», – писал он одному из друзей Белого. В 1916 году Белый опубликовал книгу о Штейнере и Гёте, направленную против недавно вышедшей книги Метнера. Знавший обоих Степун называл это «страшным ударом»,