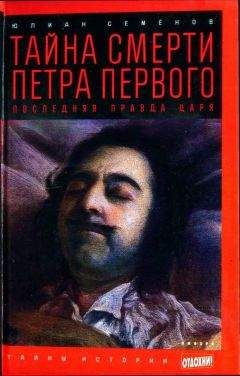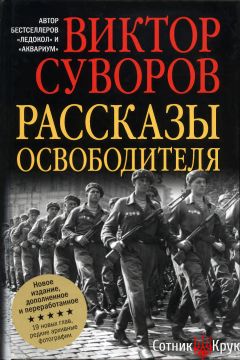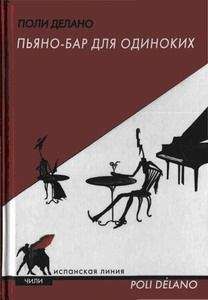- Речь идет не о Жуженко, - досадливо поморщившись, ответила Рита, - но о товарище Азефе. Я была с ним на а к т а х... Он спас мне жизнь, хотя я его об этом не просила: рискуя сорвать дело, он снял меня с метания снаряда, заменив своим адъютантом. По счастливой случайности ни один из нас тогда не погиб. Как же провокатор может ставить акт, приводить в исполнение приговор трудового народа против палача, да еще при этом не потеряв ни одного из товарищей?!
- Двойник может и больше, - ответил Бурцев.
- Да?! Он может спокойно убить великого князя Сергея? И получить за это благодарность охранки?
- Послушайте, Рита, - раздражаясь, сказал Бурцев, - я же предлагаю вашему ЦК: вызовите меня на суд! Позавчера я послал письмо Чернову, но ответа до сих пор не получил. А ведь можно позвонить по телефонному аппарату, в конце концов. Да и живет Виктор Михайлович от меня в десяти минутах ходу.
- Я шла девять, - отчеканила Рита. - ЦК вызывает вас на суд, хотя я голосовала против. Тем не менее, если и после того, как мы опозорим вас фактами, только фактами и уличим в клевете, - вы станете продолжать свои нападки на товарища Азефа, я, лично я, убью вас, господин Бурцев. Вы меня знаете, меня не остановит ничто.
- Слава богу, - облегченно вздохнул Бурцев. - Вы принесли мне самое радостное известие, которое я получал в последнее время. Спасибо, Рита, я счастлив, что будет суд.
- Я не "Рита" для вас, но "госпожа Саблина", - отчеканила девушка, осмотрела жалкую фигурку тщедушного Бурцева с нескрываемым презрением и, резко повернувшись, пошла к двери. "Вот почему революция неминуема!"
"Вчера и сегодня разбиралось дело о нападении на почту вблизи Соколова. Мужчины - пятнадцать человек - и одна женщина приговорены к смерти, две женщины - к пятнадцати годам каторги... Ученик из Седлеца, сидевший рядом со мной, тоже приговорен вместе с ними, заодно с ними приговорен предатель Вольгемут.
...Вчера опять восемь человек было приговорено к смерти.
Сегодня Ганку вызывали в канцелярию, откуда она вскоре вернулась возбужденная, хохочущая. Начальник предложил ей на выбор: или предать - тогда ее приговорят только к пожизненной каторге, или быть повешенной. Он говорил ей, что она молода и красива. В ответ она расхохоталась ему в лицо и выбрала виселицу.
Теперь она считает дни, сколько ей еще осталось жить, старается спать как можно меньше, целыми ночами бродит по камере. Иной раз вырвутся у нее из груди слова смертельного утомления и отчаяния: "Почему они пьют без конца нашу кровь! Я утешала себя, что все это вскоре рухнет, а они все еще убивают... И молодежь уже не спешит к нам". Но такие слова не часто вырываются из ее груди. Теперь она уже снова поет, устраивает жандармам скандалы, хохочет: "Даже когда меня донимают ужасные муки, я делаю все, чтобы они этого не заметили. Пусть не радуются".
Часто в ее словах чувствуется, что она мечется между жаждой жизни и неизбежностью смерти от их рук и у нее является мысль о самоубийстве, но луч надежды продолжает в ней тлеть. А когда она стучит мне, что она не склонит головы, что она не дрогнет, вступая на эшафот, я чувствую, что она говорит правду. По временам ею овладевает желание иметь при себе близкого человека, видеть его, чувствовать его прикосновение, свободно говорить с ним; тогда она клянет разделяющую нас стену. Вот так мы рядом живем, словно родные и друзья из непонятной сказки. И я не раз проклинал себя, что не меня ждет смерть...
...Вчера казнены приговоренные за нападение в окрестностях Соколова. Заключенный, сидевший вместе с одним из них, не обращая внимания на жандарма, крикнул во время прогулки Ганке: "Уже казнен!" Сегодня на прогулке мы видели только одного из приговоренных к смерти - ученика из Седлеца, сидевшего раньше рядом со мной. Он сообщил, что его вернули с места казни... Завтра будет суд над пятьюдесятью одним человеком по делу об убийстве ротмистра в Радоме.
...Полчаса тому назад (теперь уже, должно быть, около 11 часов вечера) привели из суда в наш коридор двоих радомчан. Оба приговорены к смертной казни. Если бы нашелся кто-нибудь, кто описал весь ужас жизни этого мертвого дома, борьбы, падений и подъема духа тех, кто замурован здесь, чтобы подвергнуться казни, кто воспроизвел бы то, что творится в душе находящихся в заключении героев, а равно подлых и обыкновенных людишек, что творится в душе приговоренных, которых ведут к месту казни, - тогда жизнь этого дома и его обитателей стала бы величайшим оружием и ярко светящим факелом в дальнейшей борьбе. И поэтому необходимо собирать и сообщать людям не простую хронику приговоренных и жертв, а давать картину их жизни, душевного состояния, благородных порывов и подлой низости, великих страданий и радости, несмотря на мучения; воссоздать правду, всю правду, - заразительную, когда она прекрасна и могущественна, вызывающую презрение и отвращение к жертве - когда она сломлена и опустилась до подлости. Это под силу только тому, кто сам много страдал и много любил; только он может раскрыть этот трепет и борьбу души, а не те, кто пишет у нас некрологи.
...Сегодня у меня было свидание и мне передали приветы с воли, прелестные цветы, фрукты и шоколад. Я стоял на свидании словно в забытьи и не мог ни овладеть собой, ни сосредоточиться. Я слышал лишь слова: "Какой у тебя хороший вид" - и то, что я говорил: "Здесь ужасно". Помню, что просил прислать мне какие-то книги и совершенно ненужное белье. После этого я вернулся в камеру и чувствовал себя более чем странно: никакой боли, никакой жалобы, какое-то нудное состояние, какое бывает перед рвотой... А прелестные цветы будто что-то говорили мне. Я чувствовал это, но не понимал слов.
Потом кто-то вернулся из суда, и из коридора до меня донесся его спокойный твердый голос: "Виселица" - и охрипший возглас жандарма: "Нельзя говорить".
...Сегодня Ганка опять присмиревшая, печальная. Я обратился с просьбой к вахмистру, считающемуся добрым, взять для нее цветы. Он отказал.
...Всем радомчанам смертная казнь заменена каторгой. Меня уверяли, что заменят и Ганке. Несколько дней тому назад к ней в камеру перевели другую женщину. С этих пор хохот и пение в течение целого дня без перерыва разносятся по всему коридору. Она сердится, что я почти не стучу к ней. А для меня она начинает становиться чужой. И я сознаю, что если бы я близко узнал ее, если бы она не была для меня "абстракцией", то от меня повеяло бы на нее холодом.
Всю эту неделю, несмотря на свидание и книги, я чувствую себя как-то странно. Будто бы я чувствовал веяние близкой смерти, словно нахожусь у предела жизни и все уже оставил позади...
...Рядом со мной уже два дня сидит товарищ из Кельц. В четверг слушалось его дело - приговорен к смерти, замененной пятнадцатью годами каторги; через две недели будет слушаться другое его дело - об убийстве двух стражников. До него несколько дней сидел товарищ из Люблина. Ему сообщили, что его узнал провокатор Эдмунд Тарантович и что он обвиняет его в убийстве почтальона и пяти солдат. Виселица верная. Говорят, что этот провокатор выдал целую организацию ППС и настолько занят разоблачениями и показаниями, что следователям приходится ждать очереди, чтобы его допросить. У радомчан было за это время еще два дела, два раза их приговаривали к смерти и оба раза заменяли каторгой.
...Кельчанин сидит теперь в другой камере. Ему всего двадцать один год, а за ним семнадцать дел. Когда к нему являются для прочтения обвинительного акта, он отказывается слушать, заявляя, что ему надоело и что он может отправиться на тот свет и не слушая этого. Он сожалеет лишь о том, что ему не дадут жить еще двадцать лет, и спрашивает, сколько У него было бы судебных дел к сорока годам. Снова появилось много людей в кандалах. Я их слышу и вижу только тогда, когда они выходят на прогулку. Несколько человек - почти дети, без растительности на лице, бледные, и на вид им не больше пятнадцати-шестнадцати лет. Один из них еле двигается. По-видимому, у него искалечены ноги. Во время гуляния он постоянно сидит на скамейке. Другой не подтягивает цепей ремнем, и они волочатся за ним. Остальные, наоборот, ходят гордо в кандалах, побрякивая ими, ступают бодро, выпрямившись.
На днях у меня было небольшое развлечение: я был в уборной, жандарм забыл об этом и привел товарища из Радома. Мы оба были поражены. Он уже получил три смертных приговора, замененных двадцатью годами каторги, ожидает еще двух приговоров по пятнадцать лет каторги за участие в подкопе под тюрьмой и за принадлежность к "Левице ППС". Все эти приговоры вынесены ему, несмотря на то что он не принимал ни малейшего участия в приписываемом ему убийстве жандармского ротмистра и других. К тому времени он уже совершенно отошел от движения. Второй, сидящий в одной камере с ним, тоже приговорен к смерти, хотя является принципиальным противником индивидуального террора. Жандарм заметил свой промах, но не разогнал нас и улыбался, когда вел меня обратно в камеру.