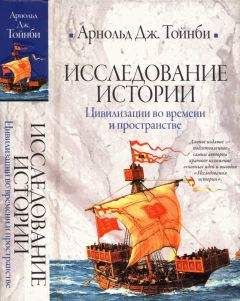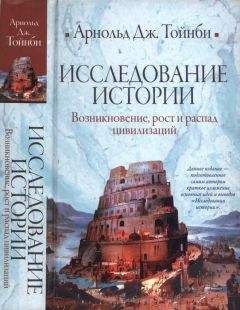Что же это за два образа жизни, которые порождают столь огромные духовные результаты, когда они принимаются, соответственно, вместо архаизма Катоном и вместо футуризма Петром? Начнем с того, что отметим общие отличия между отрешенностью и преображением, с одной стороны, и архаизмом и футуризмом — с другой, а затем продолжим рассмотрение различий между отрешенностью и преображением.
Преображение и отрешенность отличаются от футуризма и архаизма тем, что заменяют подлинное изменение в духовном климате (а не просто перемещение во временном измерении) на особую форму перемещения поля действия с макрокосма на микрокосм, что является, как мы обнаружили, критерием роста цивилизации. Царства, являющиеся целями того и другого, в обоих случаях «потусторонни» в том смысле, что ни одно из них не является воображаемым прошлым или будущим земным государством. Тем не менее, эта общая для них «потусторонность» — единственная черта их сходства. Во всех остальных отношениях они представляют собой противоположность друг другу.
Образ жизни, который мы назвали «отрешенностью», получал множество названий в различных школах его последователей. Из распадающегося эллинского мира стоики уходили в состояние «неуязвимости» (άπάθειαια), а эпикурейцы — в состояние «невозмутимости» (άταραξία), что иллюстрируется до некоторой степени сознательной эпикурейской декларацией поэта Горация, когда он говорит нам о том, что «Обломки разрушенного мира оставляют меня невозмутимым» (impavidum). Из распадающегося индского мира буддисты уходили в состояние «невозмутимости» (nirvana). Это путь, который уводил из «мира сего». Его целью было дать убежище. Тот факт, что убежище исключает «сей мир», является чертой, делающей его привлекательным. Порыв, который морально поддерживает философа-странника, есть отталкивание неприятия, а не тяга желания. Он отряхивает со своих ног прах «града погибели», однако он не видит «вон тот сияющий свет». «Герой пьесы говорит: “О возлюбленный град Кекропса!” Неужели же ты не скажешь: “О возлюбленный град Зевса!”»{22} Однако «град Зевса» Марка Аврелия — не тот же, что и Августинов Civitas Dei[145], являющийся «градом Бога Живого». Путешествие — это скорее уход согласно намеченному плану, чем паломничество, вдохновленное верой. Для философа успешный побег из «мира сего» является целью сам по себе, и в действительности не имеет значения, чем философ занимается, когда однажды пересекает порог города своего убежища. Эллинские философы изображали состояние освобожденного мудреца как состояние блаженного созерцания (θεωρία), a Будда (если его учение верно отражено в священных книгах хинаяны) откровенно заявляет о том, что раз всякая возможность возвращения исключена раз и навсегда, то природа альтернативного состояния, в котором мы сталкиваемся с состоянием tathägata, является делом несущественным.
Эта непостижимая и неопределенная нирвана, или «град Зевса», являющаяся целью отрешенности, представляет собой настоящую антитезу Царству Небесному, в которое входят путем религиозного опыта преображения. Если философский «мир иной», по сути, является миром, отличным от нашего земного мира, то божественный «иной мир» выходит за пределы земной жизни человека, при этом не переставая включать в себя и ее.
«Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть»{23}.
Мы увидим, что Царствие Божие настолько же по своей сути позитивно, насколько негативен «град Зевса», и что если путь отрешенности — это явное движение ухода, то путь преображения представляет собой движение, которое мы уже имели случай назвать движением «ухода-и-возврата».
* * *
Мы установили в общих чертах шесть пар альтернативных форм поведения, чувствования и жизни, открывающихся человеческим душам, которым выпал жребий жить в распадающихся обществах. Прежде чем мы начнем исследовать их пара за парой более детально, мы можем на миг остановиться, чтобы сориентироваться и проследить связи между историей души и историей общества.
Допустив, что всякий духовный опыт должен быть опытом некоего отдельного человеческого существа, обнаружим ли мы, что некоторые виды опыта среди тех, которые мы рассматривали, характерны для членов отдельных частей распадающегося общества? Мы обнаружим, что все четыре личные формы поведения и чувствования — пассивная «несдержанность» и активный самоконтроль, пассивное чувство самотека и активное чувство греха — могут обнаружиться как в членах правящего меньшинства, так и в членах пролетариата. С другой стороны, когда мы подходим к социальным формам поведения и чувствования, то мы должны будем проводить различие, в наших нынешних целях, между пассивной и активной парой. Два пассивных социальных явления — впадение в труантизм и уступка чувству промискуитета — сначала, вероятно, появятся в рядах пролетариата и оттуда распространятся на ряды правящего меньшинства, которое обычно становится жертвой болезни «пролетаризации». Наоборот, два активных социальных явления — поиски мученичества и пробуждение чувства единства — сначала, вероятно, появятся в рядах правящего меньшинства и оттуда распространятся на пролетариат. Наконец, когда мы рассмотрим четыре наших альтернативных образа жизни, то обнаружим, что пассивная пара — архаизм и отрешенность — будут, вероятно, сначала связаны с правящим меньшинством, а активная пара — футуризм и преображение — с пролетариатом.
2. «Несдержанность» и самоконтроль
Отдельные проявления «несдержанности» и самоконтроля, характерные для обществ на стадии распада, возможно, довольно трудно идентифицировать как раз потому, что две эти формы личного поведения будут проявляться людьми во всех социальных условиях. Даже в жизни примитивных обществ мы можем различить оргиастическую и аскетическую тенденцию, а также годовое чередование этих настроений, в зависимости от времени года, в церемониальном корпоративном выражении эмоций членов племени. Однако под «несдержанностью» как альтернативой творчеству в жизни распадающихся цивилизаций мы подразумеваем нечто более определенное, чем примитивный поток чувств. Мы подразумеваем такое состояние ума, в котором антиномичность принимается — сознательно или бессознательно, в теории или на практике — в качестве заменителя творчества. Примеры «несдержанности» в этом смысле можно идентифицировать почти безошибочно, если мы попытаемся рассмотреть их наряду с примерами самоконтроля, который представляет собой альтернативный заменитель творчества.
В эллинское «смутное время», например, в первом поколении после надлома пара воплощений «несдержанности» и самоконтроля представлена в платоновских портретах Алкивиада и Сократа в «Пире» и Фрасимаха и Сократа в «Государстве». Алкивиад, раб страсти, на практике выступает за «несдержанность», а Фрасимах, защитник принципа «сильный всегда прав», стоит за тот же принцип в теории.
В следующей главе эллинской истории мы находим, что представители каждой из этих попыток самовыражения вместо творчества ищут авторитетной санкции на свои соответствующие формы поведения, претендуя на то, что это формы «жизни согласно природе». Это ставилось в заслугу «несдержанности» теми вульгарными гедонистами, которые тщетно присвоили себе и навлекли дурную славу на имя Эпикура и которые за это оскорбление заслужили упрек от аскетического поэта-эпикурейца Лукреция. На противоположной стороне мы видим, что на санкцию «естественности» на аскетическую жизнь претендовали киники, образцом которых является Диоген в своей бочке, а в менее жесткой форме — стоики.
Если мы перейдем от эллинского мира к сирийскому в период его «смутного времени», то обнаружим ту же самую непримиримую оппозицию между «несдержанностью» и самоконтролем, проявляющуюся в противоположности между невозмутимо-скептической теорией Книги Екклесиаста и благочестиво-аскетической практикой монашеской общины ессеев.[146]
Существует еще одна группа цивилизаций — индская, вавилонская, хеттская и майянская, — которые, по-видимому, по мере своего распада возвращаются к этосу первобытного человека в своей явной нечувствительности к зияющей пропасти между безудержной сексуальностью их религии и преувеличенным аскетизмом их философии. В случае индской цивилизации присутствует противоречие, кажущееся, на первый взгляд, неразрешимым, между культом лингама[147] и йогой. Подобным же образом мы поражаемся соответствующим контрастом между храмовой проституцией и астральной философией в распадающемся вавилонском обществе, между человеческими жертвоприношениями и покаянными самоубийствами у майя и между оргиастическими и аскетическими сторонами хеттского культа Кибелы и Аттиса. Возможно, как раз общая тенденция садистической крайности, которая входит равным образом и в практику «несдержанности», и в практику самоконтроля, и поддерживает в душах членов этих распадающихся цивилизаций эмоциональную гармонию между практиками, которые кажутся непримиримыми, когда исследуешь их холодным аналитическим взглядом постороннего наблюдателя.