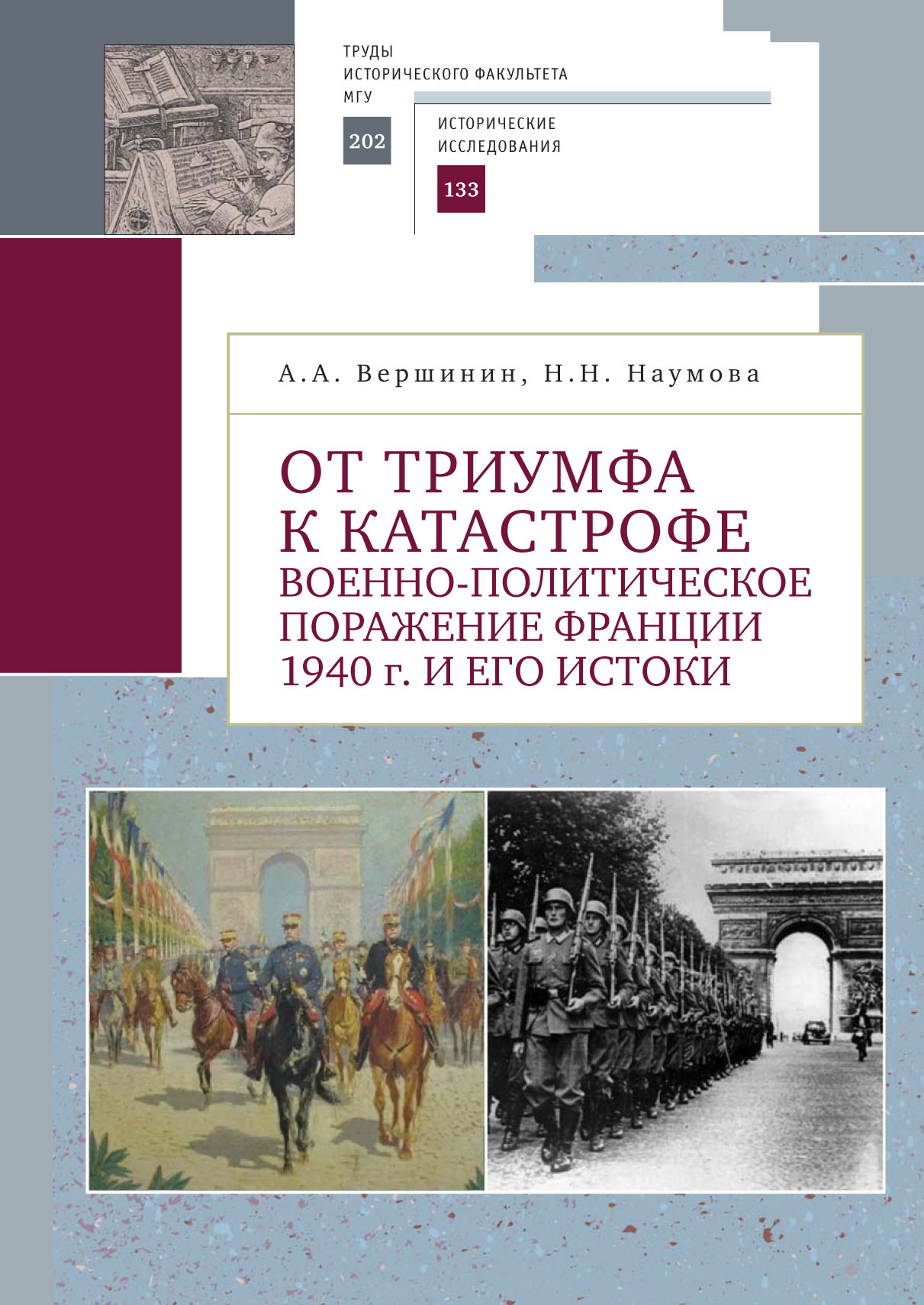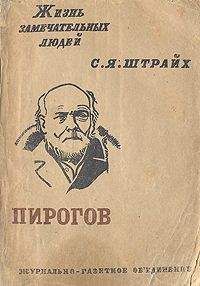экспорта военного сырья. Британский торговый флот перевозил треть всех грузов, проходивших через французские порты. Королевские военно-морские силы контролировали морские коммуникации, по которым шли поставки во Францию. Они играли ключевую роль в блокировании германского побережья в случае начала войны и, таким образом, обеспечивали возможность «удушения» германской экономики. Британский промышленный и демографический потенциал давал французам возможность уравновесить германскую мощь [298].
В Париже хорошо помнили, что победу в 1918 г. одержала коалиция, ядром которой являлся франко-британский альянс. Военные отдавали себе полный отчет в том, что на уровне большой стратегии у Франции нет альтернативы тесному взаимодействию с Великобританией. Когда в 1935 г. в ходе кризиса вокруг Эфиопии в Париже французское руководство размышляло над тем, стоит ли поддерживать антиитальянскую позицию Лондона, рискуя разрывом с Римом, Гамелен напоминал, что «итальянская поддержка может оказаться важной для обеспечения безопасности Франции, в то время как британская является ключевой» [299]. Вейган указывал на то, что без британской поддержки Франция не сможет вести длительную войну [300].
Суть французской стратегии суммировал генеральный секретарь военного министерства Жакомэ: «Под защитой укрепленных фортов нация могла в полной безопасности разворачивать производство вооружений, ожидать притока ресурсов из колоний и промышленных товаров из заграницы… Растущая помощь со стороны наших союзников обеспечивала бы нам возможность перейти в наступление, которое единственное ведет к победе» [301]. Однако прежде, чем развернуть полномасштабную войну на истощение Германии, французам предстояло парировать «внезапное нападение». Именно это «узкое место» во французской стратегии заботило военных.
Армия мирного времени, созданная законами 1927–1928 г., – писал Вейган в мае 1932 г., – не могла «обеспечить прикрытие границ без привлечения резервистов первой и, отчасти, последующих очередей; организация этого прикрытия, требующая частичной мобилизации, становится мерой более политической, чем военной. При мобилизации удастся сформировать только слабо сплоченные соединения. Как следствие, в начале конфликта командованию придется вводить их в дело с осторожностью и осмысленно. Лишь с трудом удастся создать материальные запасы, которые позволят организовать и содержать мобилизованную армию». Такая структура вооруженных сил соответствовала международной ситуации середины 1920-х гг. и подстраивалась под выросшую из нее французскую стратегию. Однако все могло поменяться. «Если бы это положение изменилось не в нашу пользу, – отмечал Вейган, – или если бы международные договоры, из которых мы сегодня извлекаем определенную выгоду, перестали соблюдаться, система нашей военной организации, даже хорошо функционирующая, утратила бы свою эффективность» [302].
С точки зрения Вейгана, французская армия в начале 1930-х гг. находилась на том минимальном уровне боеспособности, который, с учетом имевшихся стратегических факторов, а также фактического военного потенциала Германии, позволял ей с высокой степенью надежности обеспечить безопасность страны. В своих дискуссиях с политиками генерал постоянно подчеркивал угрозу, исходившую с другого берега Рейна, однако в частных разговорах признавал, что «Франция могла чувствовать себя в безопасности на протяжении долгого времени без значительных усилий» [303]. Германия втайне занималась военным строительством, но Рейхсвер являлся лишь ядром массовой армии. «Без всеобщей воинской обязанности, – отмечал У. Черчилль, – кости скелета [армии – авт.] никогда не покрылись бы плотью и не скрепились бы сухожилиями» [304]. Строительство «линии Мажино» и перевооружение должны были помочь Франции сохранить этот баланс в ситуации приближавшихся «тощих лет».
Именно поэтому Вейган в своих дискуссиях с министрами подчеркивал необходимость выделения армии дополнительного финансирования. Уже в докладе военному министру Мажино в апреле 1930 г. он писал: «Выделение кредитов [на перевооружение – авт.] является для нас ответом на вопрос о том, будет или нет существовать сама армия. [Они – авт.] должны быть выведены за рамки бюджетных дискуссий. Как в случае с финансированием укрепления границ и строительства кораблей для ВМФ, нам необходима программа поставок и модернизации с гарантированным выполнением» [305]. Настойчивость Вейгана давала результаты: уже в 1931 г. сухопутные силы получили 800 млн. франков для реализации программы перевооружения.
В начале 1930-х гг. армия ожидала от политиков реализации двух задач: максимально возможного сохранения статус-кво на международной арене и поддержания потребностей вооруженных сил на минимально приемлемом уровне с учетом демографических флуктуаций и технологических изменений. Франция должна сохранять свои позиции доминирующей военной силы в Европе – при этом условии генералы были готовы мириться с положением дел, созданным принятием законов 1927–1928 гг. И Вейган1, и Гамелен критически относились к идее сокращенного до одного года срока службы по призыву, повторяя те же аргументы, что и их предшественники на высших командных постах. Однако военные сами являлись авторами тех реформ, которые фактически лишили Францию действующей армии как активной силы. При всем своем различном отношении к политическому режиму Третьей республики, оба генерала действовали в рамках сложившейся системы военно-гражданских отношений, лишавшей армейское командование права решающего голоса [306] [307]. Поколение Вейгана хорошо помнило время, предшествовавшее началу Первой мировой войны, когда потребности военного строительства стояли во главе угла для политиков. Ситуация 1920-х гг., при которой нужды национальной обороны выпали из числа приоритетов правительства, не могла их не смущать. Однако они приняли ее как неизменное исходное условие [308].
Компромисс, сложившийся между военным и политическим руководством страны, был нарушен метаниями французской внешней политики в 1932–1933 гг. Вейган в штыки встретил ту позицию, которую заняла Франция в ходе переговоров о разоружении в Женеве. Спустя 15 лет, выступая перед парламентской комиссией, расследовавшей причины поражения 1940 г., он с трудом скрывал свое раздражение: «Для тех, кто отвечал за поддержание армии на уровне, соответствовавшем требованиям национальной обороны, она [Женевская конференция – авт.] стала настоящей Голгофой. О глупостях, творившихся в Женеве, можно говорить бесконечно долго! Для меня этот период стал временем упорной борьбы против разоружения. Я очень хорошо понимаю, что французское правительство, сделав ставку на систему коллективной безопасности в рамках Лиги Наций, не могло не принять участие в развернувшихся там дискуссиях. Но я прошу понять, что я не мог поступить иначе, как выступить против разоружения Франции. Я не верил в коллективную безопасность, так как под нее никогда не удавалось подвести реальные основания» [309].
Вейган был готов согласиться только с таким вариантом разоружения, при котором возникали мощные коллективные наднациональные силы. «План Тардьё», который предполагал организацию международной армии, оснащенной тяжелым вооружением, разрабатывался при активном участии французских военных. Генерал видел в нем возможность обеспечить ту гарантию системы коллективной безопасности, без которой она, по его мнению, оставалась недееспособной. «Этот проект, – вспоминал он, – предполагал формирование международной полицейской силы с целью предотвращения войны, первого эшелона сил принуждения, которые могли бы оказать немедленную помощь государству, ставшему жертвой нападения» [310]. «План Тардьё» наполнял конкретным содержанием модель Лиги Наций, которая превращалась в мирового полицейского, а также закреплял за Францией, крупнейшей