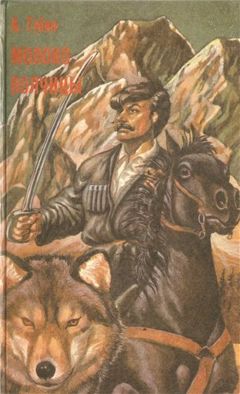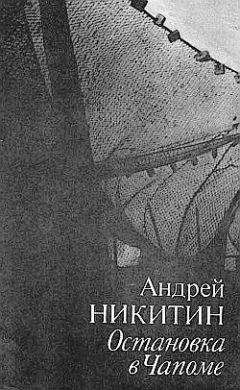— Дави суку! — орал Алешка.
Кони шли, как на Большой приз, земли не задевали. Но перед телом умные животные свильнули, сбив ход. Кучер тройки успел вытянуть кнутом проклятую волшебницу, и православные отстали, а через два порядка свернули в свою, Николаевскую церковь.
В старообрядскую вносили гроб. Отпевание грозило затянуть церемонию. Алешка Глухов вошел в алтарь, несмотря на протесты служек, и сунул батюшке под стихарь полуимпериал. Гроб сдвинули — не к спеху. Вздули кадило на цепках, бросили в курильницу ладан. Вошел спешно облачившийся дьякон, поразительная красота которого губила в станице баб и девок, как пожар траву. Начали обряд. На головы Петра и Марии надели венцы кружевного серебра — золото старообрядцы презирали: серебро от бога, злато от сатаны. На черную кожу Библии положили граненый кипарисовый крест. Под ноги Петру незаметно подставили скамеечку, чтобы мог возвышаться над женой.
— Раб божий Петр, согласен взять женой рабу Марию?
— Согласен.
— И дашь ответ на том свете за ее живот?
— Дам.
— Раба божья Мария, согласна стать женой Петра?
— Согласна.
— И будешь бояться мужа?
— Буду.
Священник соединил их вечными узами. Мария несмело надела кольцо на палец мужа, он отдал ей ее кольцо. Выпили из одного стакана святого вина Петров же кагор. Певчие истово пели «многая лета».
На выходе молодых осыпали хмелем, зерном, мелочью — под ногами ползали калеки и нищие, собирая деньги и конфеты.
Тройка понеслась к фотографу Грекову, на заведении которого значилось не по-русски «Moderne Photographie Paris»[4]. Запечатлели торжественный миг в брачных нарядах. Оттуда два шага до Глотовых, на Генеральской улице, где временно потеснили квартирантов, жить же Петр собирался по-прежнему на хуторе. Там уже великое множество родных и столы накрыты. Благословили молодых иконой, стали усаживаться.
На самые почетные места, подле новобрачных, посадили старейшего деда Ивана Тристана и Федьку. В обычные дни старика уже мало замечали, стоял он одной ногой в могиле, но каждый, проходя мимо, обязан снять шапку и поклониться. Тут же о нем заботились неустанно, подливали не простого чихиря или араки, а из запечатанной бутылки с казенным знаком. Брат невесты тоже важная фигура. Он даже мог вернуть выкуп, если сестра пожалуется ему на мужа. И цветок Федьке прикололи восковой, как у жениха, у всех остальных бумажные. Братец Антон прислал сестре поздравление «по проводам», чем сильно гордились Синенкины. Братец Александр на свадьбе был, но его сторонились — выпив, он начинал городить такую чепуху, что уши вянут, — о жизни на звездах, о какой-то химии и пшенице размером в конскую голову.
И вот уже дым коромыслом. Началось буйное казачье веселье. Старики подсаживались друг к дружке, вспоминали свои свадьбы, более правильные и шумные. Молодые завязывали узелки будущих свадеб, знакомились, ухаживали. Звон, песни, галдеж. Синеусый казак с бритым черепом в гомоне пытался дорассказать:
— Полковник Невзоров вызвался быть ему крестным отцом, Митьке нашему. На зубок подарил кинжал — расти, казак! Позвал нас с Петровной в гости. Нарунжились мы чик-навычик, приходим. А дом, что под волчицей, весь огнями сияет, музыка танцы бьет, гости одни господа и разговор идет не по-русскому. Ну, думаю, попали. Я-то мог по-французскому поздороваться, адью, говорю, смеются, понимают, значит, а старуха моя ни бум-бум. Посадил нас хозяин. Два лакея становятся сзади — из ресторана нанятые. Сидим. Чай с алимонами пьем. Только я за бутылкой потянулся, а лакей хвать ее и наливает мне в бокал. Ага, соображаю, ладно. Подают пирог с запеченным оленем — шестеро внесли. Лакеи порезали его на куски, и тут уже другой куртаж: каждый сам себе берет ножиком, а ножик — ровно пила. Вижу уроню, а скатертя златотканые. Вилки и у нас дома были, но их не давали, берегли. А хозяин, как на пропасть, приглашает нас с Петровной, как гранд-персон: кушайте, мол, дорогие гостечки. Гадал-гадал я, не уробел. Как поддену пальцами кусменяку, а другой рукой сверху держу. Тут и закричали все — уже по-русскому — браво, браво!..
На другом конце стола со смеху давится Серега Скрыпников, рассказывает, как в детстве нянчил младших братьев и сестер.
— Залезу на печку, а мать мне Гриньку сует, с гад ему было, «На, играйся с ним». А я не хочу. Как отвязаться? Я ему лапу пеку на горячей трубе, он орет как резаный. «Чего он?» — спрашивает снизу мать. «На пол хочет». — «Тю, чтоб его чума забрала!» А то еще так. Мать уйдет на поле, оставит нам с Полькой припасов, чтобы мы маленьких кормили. Мы пряники пожрем сами и кашу ихнюю сладкую и тянем их на загон к матери. — «Вы чего?» — «Орут как бешеные». — «А вы их кормили?» — «Все полопали и орут!»
Казаки хохочут, и вместе с ними злосчастный Гринька — косая сажень в плечах, каменотес артели дяди Анисима Луня.
В темном сарае промеж быков сидит Глеб Есаулов. От быков идет теплый пар, пахнущий шалфеем. В стрехах повывает ветерок. Песни доносятся от Синенкиных — свадьба уже в доме невесты, брачная ночь прошла. Что Мария так сразу согласилась на свадьбу, он посчитал за измену и даже сам хотел в отместку ей жениться. А поскольку она изменила, он старается не думать о ней, иначе боль в сердце нестерпимая, хоть в петлю лезь. И чтобы не слышать песен от Синенкиных, уходит со двора на мельницу, сидит в хате деда Афиногена, слушает были о прошлой войне на Кавказе, но и тут слышны песни и крики свадьбы.
Дух бешеного Терека вселился в казаков. Пляшут и рубятся, джигитуют на улице — свадьба или перестрелка? «Водят медведя» по станице с бубнами и тулумбасами. «Едят кур». Опохмеляются, приходят в себя, и свадьба начинает замирать.
После ста лет жизни у деда Ивана выпали старые зубы и выросли новые. Он снова с удовольствием грыз чурек, сахар, мозговые кости. Но теперь, видя, с какой жадностью, до белого, дед выедает корку моченого арбуза, Федор подумал: час тестя недалек. Иван уже не раз делал себе гроб, но смерть приходила за другими, гроб отдавали. Прошлым летом он снова выстругал себе ковчег.
Ивану стало душно в горнице. Стол с утра свежий — залит вином, сдвинуты в беспорядке грязные чашки и рюмки. Ивану вспомнилось утро его жизни, грозное, лихое, лютое, но теперь казавшееся прекрасным. Он вышел на баз. В голове шумело. Студеный ветер гнал с гор снежинки, ворошил начатый угол стога. Пьяные казаки без шапок проветривались за плетнями и сараями. В сторонке Маланья Золотиха жаловалась Исаю:
— Одна мать прокормит семерых детей, а семеро детей не прокормят одну мать. Никудышние дети стали. Ромашка совсем замечтался, а дочка опять в монастырь ушла…
Исай с крепкими, как у юноши, ногами, поддакивал, обнимал Маланью за грузную талию. Неожиданно жена пророка пошла в пляс.
Ой, бабочки, бабочки,
Да вы скажите, бабочки,
А где старость продают,
А молодость купуют?
Я бы сто рублей дала
Свою старость продала,
Я бы двести заплатила
Себе молодость купила…
У амбара стояли Петр и Мария. Он в шутку намотал на руку ее косы и легонько понукал, как лошадь. Она горбилась и деланно смеялась. Сердце деда сжалось. Он хотел на прощанье приветить внучку, но не посмел мешать мужу. Федор вывел из конюшни коней Петра и уважительно устилал сани соломой. Вот сейчас Мария будет окончательно прощаться с родными. Муж увезет ее в свой дом, где она будет жить по его законам, изредка видясь с родственниками.
Заплакала Настя. Шмурыгает носом Федька, понявший, что торг был не шуточным. Дед Иван, придерживая грудь рукой, поцеловал внучку, перекрестил и с трудом сел на дровосеку. Мария разрыдалась. В глазах деда поплыли золотые туманы молодости, когда и он увозил жену от родных, и было это, казалось ему, славно. Он уже не помнил ее, первую жену. Настя родилась от второй. И все же будто вчера это было. Как один день, пролетела жизнь. Молодые думают, что он много жил. Нет. Он жил столь же мало, как и его братья, умершие в детстве, сто лет назад. И не успели сани с гостями и молодыми скрыться за поворотом, как он упал на снег. Сморщенный, высокий, неожиданно легкий, точно пушинка, — «спрел в середке, как ясень».
Ивана внесли в горницу, еще полную свадебного дыма. Пришел священник и приобщил старика святых тайн, снабдил путеводителем в селения блаженных. После соборования Иван, очнувшись, благословил родных, еще остающихся в грустной юдоли земной, и тихо лежал под образами. Подошедшего Федора не узнал. Показалось, вошел косматый горец, которого дед зарубил на Сунже-речке. Бабы стали обголашивать деда, еще не решаясь выть в полный голос.
Пречистая матерь сошла с горных высот и тихо унесла на крыльях душу старого казака Ивана Франсовича Тристана, а тело его обмыли, одели в чистую справу и предали земле, откуда произошло оно и куда все обратится в конце концов.