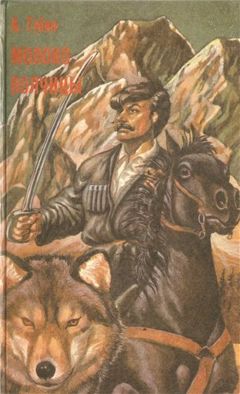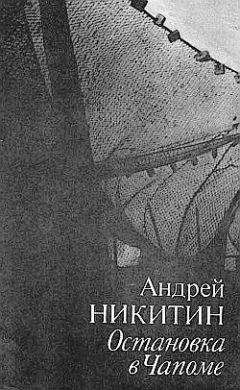ПЛЕТЬ МУЖА
Петр Глотов женился вторично. С бабами ему не везло. Вернувшись однажды с торгов в станице Георгиевской, он обнаружил, что его жена сбежала с каким-то проезжим хахалем. Вот тогда-то он и ушел жить на хутор, дав зарок никогда не жениться. С весны по осень ездил к Белым горам, собирал на альпийских лугах какие-то травы, от весны брал легкость, от лета — вкус, от осени — жар и долголетие и творил отменные настойки, наливки, запеканки.
Он погрузился в тайны виноделия, составляя для брата Зиновея-шинкаря рецепты вин и наливок, овладевал секретами дешевого изготовления спирта. Жил замкнутой, обособленной жизнью среди бочек, баклаг, бутылей, жбанов, выписывал журналы, знался с прасковейскими виноделами. Офицером он стал случайно, отличившись в подавлении рабочего восстания на государственном оружейном заводе, но в кадровой службе не остался.
С весны на хуторе он занимался и пчелами, ловил и рассаживал рои, плодил семьи. У станичников пчелы в плетенных из ивы сапетках, а у Петьки в крашеных сосновых домиках. У всех еще ульи стоят в подвалах, а у него уже пчела работает, носит с полей сгущенное солнце. Потом он качал меды, сливал их в чистые кадушки, где они засахаривались за годы так, что их приходилось рубить топором. Его медовую бражку охотно пили и господа.
Злость на жену-изменницу с годами утихла, хотя Петька с тех пор всех баб называл нехорошим словом. Случилось ему сблизиться с гулящей Нюськой Дрючихой — и снова в жилы влилась сладкая гибель-трава, любовь-отрава.
Нюська с детства бегала спать с взрослыми бабами соседками, слушала с замиранием в крови разговоры о любви и стала усердной жрицей в этом храме. Худенькая, с высокой грудью, остро пахнущая под мышками, она подавала воду у источников и стала сама источником для приезжих прапорщиков, семинаристов, купцов, извлекая выгоду из местного, насыщенного любовью климата. Ее водили в отдельные номера, хорошо платили. Не отказывала она и крепким станичникам, но тут не понимали, что даме надо платить. Невинное детское личико, молочная мякоть больших грудей пленили пожилого сотника.
Не раз Петр был близок к убийству, но трезвый ум пересилил, сумел он отказаться от Нюськиных ласк. И чтобы отгородить себя от случайностей в любви, решил жениться. Тут на глаза ему попалась Мария Синенкина. А злость на первую жену и на Нюську, которых он продолжал по-своему любить, осталась. Злость на женщин вообще.
Когда деду Ивану исполнилось сорок дней, Глотов поехал с молодой женой в лес. Но до места не доехал, свернул в глухую балочку, остановил коней. Позвал жену за собой. Она покорно пошла следом, вся похолодев.
Неожиданно Петр обернулся — и свистнула казачья плеть с медными жилками: за любовь довенечную, за побег первой жены, за распущенность Нюськи Дрючихи. Мария кротко всхлипнула и зажала себе рот, чтобы не кричать. Эта голубиная кротость распалила бешенство сотника. Ишь, голубка, а случись — от мужа сбежит, изменит, раз изменила еще до свадьбы, до знакомства с ним!
С пятого удара ноги беременной Марии подкосились. Упала на колени, зарыдав. Шустрый казачишка дергал свирепо светлые волосы, прыгал вокруг большой красивой жены. Вот теперь он сведет счеты со всеми бабами, блудливыми кошками. Коротко, в ненависти, бросил как на плацу:
— Встать!
Но подняться не дал — невдалеке ехали люди. Когда подвода удалилась, Петр сладострастно запустил пальцы в хрупкое горло жены, стал душить:
— Встать же, курва!
Она уже судорожно икала, помертвев, и пришлось горло отпустить, в дело опять пошла плеть. Обдирая ладони об терновые иглы, не видя белого света, Мария встала на четвереньки — графиня, как явствовало из надписи на ордене ее прадеда.
— Руки, потаскуха! — завопил сотник его величества.
Мария исполосованными руками прикрывала низ живота, куда он метил носком сапога — блуд вышибал.
— Родненький, — захлюпала горячо и молитвенно, — век буду бога молить, бей по голове, в зубы бей… — и упала навзничь от удара, и целовала пыльные, пахнущие дегтем и конской мочой сапоги сотника, цепляясь за жизнь, как все живое, со звериной тоской.
И муж пожалел блудницу и ее будущих детей — не бил по животу, не взял греха на душу, бил по золотистой голове и узким плечам. Вытоптанный снежок кое-где темнел от крови. Кровь шла горлом и носом.
Серыми мокрыми глазами Мария прощалась с единственным из людской стаи, что был рядом, — с Петром. Тогда вдруг пала пелена с глаз Петра. Он увидел ее беззащитные плечи. Шубу он сорвал с нее, платье содрала негнущаяся плеть, и обнажилась тонкая бледная тесемка сорочки и темная родинка на худой лопатке. Эта тесемка и эта родинка так не вязались с грозными понятиями коварства и измены, что Петр содрогнулся насмерть и почувствовал себя малым Петькой в жутком лесу. Кровь текла по груди жены, что отдана ему в руки ее родителями и за которую он даст ответ богу. Всхлипнул, схватил Марию в охапку — не поднять, целовал соленые губы, окрашенные не вином, горячечно спрашивал:
— За что я тебя так, а? Я ведь и кинжал взял, думал, на куски порежу…
Она не отвечала. Лежала, как пласт, на мерзлой земле. С трудом дотащил он ее до саней, бережно укутал романовским полушубком и погнал коней на хутор, не щадя их нисколько. Сам по военной науке помазал раны мазью, поставил компрессы, забинтовал жену.
В тепле и сытости Мария отлежалась. Глаз только попортил ей Петька плетью на всю жизнь, слезился. Отныне муж и пальцем не трогал ее, но и не глядел, был скучный и хмурый. Часто проведывал дочь Федор Синенкин. О многом догадывался, но дочь ничего не говорила и делала вид, что живет хорошо. Раз только и не выдержала, провожая отца за калитку, заплакала.
Летом пришло время. Петр позвал бабку Киенчиху. Роды прошли легко. Двойня — мальчик и девочка. Петра поздравляли. Он будто невзначай глянул на детей и больше не интересовался — Есаулова порода. К жене не подходил, воды не подал, хоть видел, как поблекли и скрутились от жгучей жажды ее губы. Она молчала. Не думала ни о прошлом, ни о будущем, теряла красоту, потому что лицо ее было красиво только в радости, а в скорби тускнело. Глеб временами промелькнет в сознании — девочка Тоня вылитый его портрет, а сын Антон похож на Синенкиных.
Глеб в это время был далеко. Еще ранней весной, когда у волчиц вымотались сосцы, а балки чуть засинели первыми скрипками-синичками, призвали молодых казаков на цареву службу. Отгуляли на проводах, перекинули на седла торока, отслужили молебен, атаман напомнил молодцам о славе предков, о казачьих косточках в чужедальних краях, и вот уже сотня тронулась, и далеко на курганах гаснет песня.
Оставляем, братцы, мы станицу
У Подкумка у реки.
На турецкую границу
Служить едут казаки…
Однако Глеб попал не на границу, а на конный завод в ремонтеры[5]. Пас, лечил и объезжал коней. Много ездил со своей командой в причерноморских степях, бывал за Волгой, перегонял косяки конские за тысячи верст. Под конец службы ему нашили урядника.
Звездные ночи, костры. Табуны и травы.
Тоска по станице и хозяйству.
Поднимался Глеб и на службе раньше других — и за это его любили командиры, и ложился позже — стирает, штопает, мастерит. У других казаков — винтовка да конь, а у него три коня, фургон, а в том фургоне и таганок, и тазик медный походный, и даже каталка одежду гладить. Спиртное и табачное довольствие получал деньгами, занимался мелкой торговлишкой, и его в шутку называли маркитантом[6], мог он и среди ночи достать вино, прирабатывал и тем, что часто за товарищей нес службу у лошадей. Раза четыре в году отписывал домой про свое житье-бытье, просил мать беречь быков и не переводить помидорный огород на лимане, братьям передавал поклон и кланялся «всей улице».
Прасковья Харитоновна угадывала в письмах тоску сына по станице, писала ему ласково, с присказками, сообщала, что жена Глотова родила до срока — от венца, и что дети здоровые, что помидоры, «будь они неладны», сохраняет, Спиридон уже вселился в свою хату, и есть уже невеста, а Михея почти не видно — стал он егерем казенных лесов с Игнатом Гетманцевым, а Сашку Синенкина месяц держали в каталажке за какие-то сборища, а Дениска Коршаков уехал в город Ростов и насовсем стал мастеровым…
Через два года казак вернулся домой.
Со службы привел коней, фургон, сундук барахла.
Сам одет в тонкий бешмет, сапоги хромовые и шапку азиатского золотистого каракуля. Никто не узнал, что часто по ночам стирал казак офицерские исподники, а то и дамское белье за деньги, зато каждый видит, что вернулся казак с похода богатеньким. На загорелом суховатом лице черные усы, станом и выправкой казак благородный, газыри на черкеске серебряные. Только одно огорчало его — катастрофически белели виски, пробивалась ранняя седина, и Глеб иногда замазывал ее сажей.