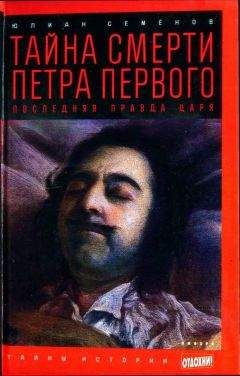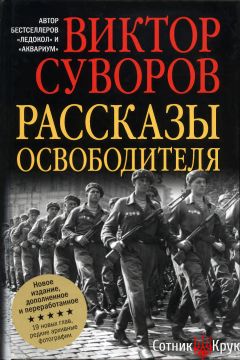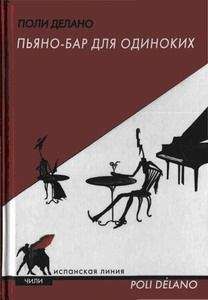- Ну как? - спросил Герасимов. - Объяснились?
Азеф потер лицо мясистой, громадной ладонью и грубо ответил:
- "Объяснились"? Да он меня взашей прогнал. Зря я вас послушался. Теперь мне спасения нет. Он им скажет, что я был у него, а ведь я сюда из Берлина нелегально уехал, ЦК убежден, что я сейчас работаю в Берлине, проверить - раз плюнуть...
Герасимов положил руку на оплывшее, по-бабьи жирное плечо Азефа и сказал:
- Я поеду к нему сам. Обещаю: договоримся миром.
- Нет. Не договоритесь, - Азеф покачал головой. - Напрасно все это. Ни к чему. Только дерьма нахлебаетесь.
- Мы с ним друзья, Евгений Филиппович. Сослуживцы как-никак.
- Вы "сослуживцы", - Азеф сухо усмехнулся. - А я "подметка". Что со мной говорить? Отслужил свое - ив мусор, вон из дома...
- Я не узнаю вас, Евгений Филиппович. С таким настроением вам нельзя возвращаться. Вам предстоит состязание, и вы обязаны его выиграть. И вы его с вашим-то опытом, с волей вашей - выиграете. Я в вас верю. Обещаю вам локализовать Лопухина. Слово чести.
...Назавтра, в ранние петербургские сумерки, когда шквальный ветер, налетавший с залива, рвал полы пальто и нес по улицам мокрый снег с дождем, Герасимов вылез из экипажа на Васильевском острове, рядом с особняком графини Паниной, где жил Лопухин, и поднялся по широкой лестнице, устланной красным ковром, на третий этаж.
Лопухин и на этот раз дверь открыл сам, горничная еще не воротилась; кухарка готовила ужин, громыхая кастрюлями; звонка не слышала; Герасимова поначалу не узнал - тот сильно похудел на водах, пальто висело на нем, лицо осунулось, поздоровело; признав, искренне обрадовался:
- Ах, как это мило, что вы заглянули, Александр Васильевич, вот уж не ждал! Не с посланием ли от Петра Аркадьевича?
(До сих пор Лопухин затаенно верил, что Столыпин вот-вот пригласит его вернуться; как правило, все уволенные с больших должностей уповают на чудо, совершенно лишаются логики, живут грезами, - вот что значит отойти от дела, упустив из рук власть!)
- Думаю, он заканчивает его обдумывание, - улыбнулся Герасимов. - Живем в непростое время, огляд нужен, р а з м и н к а...
- Раздевайтесь, Александр Васильевич, милости прошу к столу. Чайку? Или спросить кофе?
- Молока, если разрешите. Держу диету. Молоко очень помогает похуданию, должен заметить.
- Ах, суета сует и всяческая суета, - вздохнул Лопухин, вешая пальто Герасимова на оленьи рога. - Все под богом ходим, сколько кому суждено, столько и проскрипит; тощий не станет толстым, склонный к полноте не похудеет...
Крикнув в темный длинный коридор, который вел на кухню, чтоб сделали английского чаю и подали стакан молока, Лопухин провел Герасимова в кабинет, сплошь завешанный фотографиями, маленькими миниатюрками, акварелью, карандашными рисунками, и усадил его в старинное кожаное кресло, стоявшее возле камина; сам устроился напротив, на атласном треножнике, очень его любил, в детстве скакал на нем верхом, представляя себе норовистым конем.
- Ну, так с чем пожаловали? Я, признаться, поначалу решил, что вы от премьера... Раньше-то он был для меня "Петя"... Как же власть воздвигает границы между людьми! Мне передавали, что он несколько раз осведомлялся обо мне, потому и решил, что вы, столь близкий к нему человек, пожаловали с приятными известиями.
- Я по частному делу, Алексей Александрович, - ответил Герасимов, кляня себя потом за то, что не оставил Лопухину хоть гран надежды: весь разговор мог бы принять иной оборот, спас бы Азефа, какое д е л о развернешь без урода?
- Ну что ж, - ответил Лопухин с нескрываемым разочарованием, - к вашим услугам...
Кухарка принесла чай и молоко, поставила стаканы на низкий столик, выложенный уральскими самоцветами, и, пожелав гостю приятно откушать свежего молочка, выплыла из кабинета, мягко притворив за собою большую двустворчатую дверь.
- Я по поводу Азефа, - сказал наконец Герасимов, ощущая какое-то тягостное неудобство.
Лопухин не донес чашку до рта, досадливо вернул ее на блюдце:
- Вот уж напрасно вы об этом мерзавце печетесь!
- Но этот, как вы изволили выразиться, мерзавец довольно долго работал с вами, - достаточно резко возразил Герасимов.
- Он со мною не работал. Он предавал своих друзей департаменту и за это брал деньги. Он расплачивался за свое богатство головами людей, которые ему верили... Я никогда не забуду, как он выдал мне своего ближайшего друга Хаима Левита: "тот готовит а к т, очень опасен, ему не место на земле". Левита взяли и привезли в департамент. Я специально пошел на допрос; худенький такой, шейка тоненькая, глаза горят, бросил химический факультет университета во имя революции, а был, судя по оставшимся публикациям, талантлив, профессура в нем души не чаяла... Как сейчас его помню, знаете ли... Я спросил: "Кто вас мог предать, Левит?" А он ответил с презрением: "Среди революционеров предателей нет!" - "Ну а как же вы тут очутились? Кто из ваших знал, где находится динамитная мастерская? Мы же вас с поличным взяли, Левит. А это значит, что вы подпадаете под юрисдикцию военного суда. И приговор будет однозначным - казнь. Вы это понимаете?" - "Прекрасным образом понимаю". - "Кто приходил к вам в мастерскую семь дней назад? Жирный, высокий, со слюнявым ртом?" Тут бы ему и дрогнуть, я ж ему спасательный круг бросил! Назови руководителя - ему петля, тебе каторга, а там, глядишь, за молодостью лет и помилуют... Так ведь нет, перекосился, будто от удара, и ответил: "На все дальнейшие вопросы провокационного характера отвечать отказываюсь"... И ни слова больше не проронил... Повесили несчастного юношу, а вы, изволите ли видеть, пришли хлопотать за пособника палачей...
- Нас с вами называли палачами, - заметил Герасимов. - Кровавыми царскими палачами... Ну, да бог с ним, перенесем и такое... А вот жизнь-то вам Азеф спас, Алексей Александрович. Ведь на вас был а к т запланирован. Но он не дал его совершить.
- Полагаете, из благородных соображений? - осведомился Лопухин. - Рыцарь? Да он сам этот акт против меня ставил, чтобы выклянчить себе больший оклад содержания!
- За риск положено платить.
- Он работал без риска! Повторяю: он расплачивался головами своих друзей.
- Его друзья были нашими врагами, Алексей Александрович... И продолжают ими быть поныне...
- Моими? - усмешливо переспросил Лопухин. - Нет, теперь они не являются моими врагами. Ваши? Да, бесспорно. Когда вас вышвырнут с государственной службы, а это может произойти в любую минуту - кто-то про вас кому-то нашепчет, не так глянете, не то скажете, донесут в одночасье, - они перестанут считать вас своим врагом. Вы думаете, что Азеф не имел никакого отношения к убийству великого князя Сергея? Он поставил этот акт, он! У меня брал деньги, чтобы спасти великого князя, отдал нам почти всех своих боевиков, но трех, самых отважных, приберег - "мол, я о них ничего не знал, ваши филеры прошляпили, не тем маршрутом великого князя повезли!". Ложь все это! Ничего мои филеры не прошляпили! Он двойник! Мерзкий провокатор! Он всегда и всех предавал!
- Алексей Александрович, я что-то не возьму в толк: вы действительно намерены публично подтвердить работу Азефа на тайную полицию?
- Публично я ничего делать не намерен. Но если мне покажут какие-то документы, а они, судя по всему, у Бурцева есть, я роль приписного шута, который тупо повторяет то, что печатают наши официозы, играть не стану...
- Погодите, Алексей Александрович, погодите... Вы намерены открыть революционерам имя вашего сотрудника?
И тут Лопухин ударил:
- Вашего, Александр Васильевич, вашего...
Герасимов поднял глаза, в которых было горестное понимание той обиды, которая постоянно точила сердце Лопухина; если бы я мог открыть ему все про себя, он бы пощадил Азефа; но разве скажешь? Никто никому не верит, все в себе; околдованы страхом, он въелся в нашу плоть и кровь...
- Алексей Александрович, вы понимаете, что ваши показания - даже доверительные, а отнюдь не публичные - означают вынесение Азефу смертного приговора? А ведь у него жена, двое маленьких детей... Каково им будет, об этом вы подумали?
- А он вспоминал про семью, когда покупал себе на департаментские деньги роскошных кокоток?! Он вспоминал про семьи тех, кого отправлял на виселицу? Он целовал Фриду Абрамович в лоб, обнимал, как сестру, а накануне сказал нам, где ее брать с поличным - чтоб сразу под петлю! А у Фриды этой мать парализованная, умерла от голода через три месяца после того, как казнили дочь. А Каляев? "Мой сын, мой сын!" Нет, Александр Васильевич, и не просите! Я через себя переступить не могу!
- Скажите, вы с Бурцевым действительно виделись?
- Я слышу в вашем вопросе интонации допроса, - сухо заметил Лопухин. - Или я ошибаюсь?
- Помилуйте, Алексей Александрович! Как вы могли такое подумать?! Просто я не могу не констатировать, что ваши показания революционерам - в какой бы форме они ни были даны - могут быть квалифицированы как разглашение тайны... Я не могу поверить, что вы, юрист по образованию, представитель одной из самых уважаемых русских дворянских династий, могли пойти на заведомое преступление.