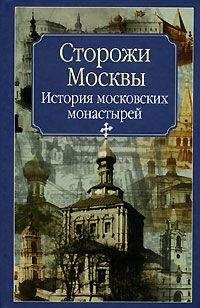«Под сим камнем покоится прах рабы Божией инокини Аркадии, скончавшейся 1839 года, генваря 22 дня. Инокиня Аркадия проживала в посаде Пучеже, при Пушавинской церкви, 50 лет, скрыв настоящее свое звание и род, а называлась Варварою Мироновною, по прозванию Назарьевой, жития же ей сколько было, остается неизвестно».
Надпись на каменном надгробии у южной стороны Воскресенской церкви в поселке Пучеже Костромской губернии.
Отъезд за границу и возвращение в Россию – они фигурировали во всех версиях. Возвращение насильственное. По крайней мере, противоречившее желаниям «племянницы». И дальше жизнь за монастырскими стенами – монашеская или тюремная, правдивая или исполненная внутренних метаний и неостывающих надежд. Назывались несколько монастырей – в том же Переславле-Залесском, Москве, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Костроме. Каждый имел свою легенду, более или менее подробную, более или менее насыщенную датами, обстоятельствами, именами. Об узнице заботились относительно. Иногда ее навещали. И всегда сама она – вначале, во всяком случае, – делала попытки вырваться из неволи.
О пожилой женщине, доставленной под стражей в Пучеж на переломе 1880—1890-х годов, местным жителям запомнилось многое. Она охотно говорила со своим единственным дозволенным собеседником-духовником, попом местной Воскресенской церкви. Поп был не менее словоохотлив в отношении других своих прихожан. Каждое действие неизвестной в крохотном, насчитывавшем даже к концу XIX века не больше двух тысяч жителей селении становилось общим достоянием и предметом обсуждений.
Оказывается, неизвестная долгие годы прожила под стражей в особых кельях в Орле, где ее духовником был протоиерей тамошней кладбищенской Иоанновской церкви Лука Малинов, а затем в Арзамасе. В Пучеж ее доставил с особыми мерами предосторожности полковник Бушуев, увезший живших с нею «четырех женских персон» в более далекую и глухую ссылку.
Местом жительства неизвестной был выбран закрытый в 1754 году Воскресенский мужской монастырь, вернее – его стены с единственной сохранившейся и действовавшей в них церковью. В ограде никто, кроме неизвестной, не жил, на богослужениях почти никто не бывал. И если старевшая одинокая женщина не испытывала особенно острой нужды, то только благодаря владельцу огромного соседнего села и богатейшей пристани князю Егору Александровичу Грузинскому. Ему была она обязана присланной в услужение женщиной, запасом дров на зиму и провиантом, на который узнице забыли отпустить денег.
Неизвестная много и безрезультатно писала в Петербург, адресуясь к самым знатным придворным особам. Под ее диктовку подобные письма писал и поп, запомнивший среди адресатов имя В. П. Кочубея. Историки готовы были впоследствии усматривать в этом тень родственных связей – Кочубей женился на родной внучке К. Г. Разумовского, младшего брата елизаветинского фаворита. Но верно и то, что Кочубею довелось однажды возглавлять министерство внутренних дел. Как человек он отличался вошедшей в поговорку опасливой предусмотрительностью, как министр мог прислушаться к прошению или просто передать его в царские руки.
О личных чувствах можно скорее говорить в отношении князя Грузинского. Потомки грузинского царя Вахтанга VI Законодателя были обязаны Елизавете Петровне получением богатейшего подмосковного села Всехсвятского и того же Лыскова, которое Егор Грузинский безусловно предпочитал Москве. К тому же князь готов был бравировать своим оппозиционным отношением к петербургскому двору.
Местные предания. Местные свидетели. И никаких документальных источников – ни в архиве Тайной канцелярии, несомненно, занимавшейся делом пучежской узницы, ни в клировых ведомостях, скрупулезно отмечавших каждого принимавшего монашеский постриг.
Единственное очень косвенное доказательство в пользу версии о дочери Елизаветы Петровны – имя Аркадия. По существовавшему порядку иноческое имя должно было начинаться на ту же букву, что и светское, данное при крещении: Августа – Аркадия.
Принцесса Августа Тараканова, во иноцех Досифея, постриженная в московском Ивановском монастыре, где во многих летах праведной жизни своей скончалась в 1808 году и погребена в Новоспасском монастыре.
Надпись на обороте портрета, хранившегося в настоятельских кельях московского Новоспасского монастыря. Масло, холст, 10 1/2 × 7 1/2 вершков.
«Под сим камнем положено тело усопшия о Господе монахини Досифеи, обители Ивановского монастыря, подвизавшейся о Христе Иисусе в монашестве 25 лет и скончавшейся февраля 4-го 1810 года. Всего жития ее было 64 года. Боже, всели ее в вечных твоих обителях».
Надпись на надгробии из дикого камня у восточной ограды московского Новоспасского монастыря, рядом с колокольней.
На этот раз были реальные памятники – портрет, надгробие, и снова никаких документальных свидетельств. Когда и по чьему приказу привезена и пострижена, что скрывала под иноческим именем – оставалось загадкой. Клировые ведомости Ивановского монастыря инокини Досифеи вообще не упоминали.
Впрочем, даже существование портрета осталось недоказанным. Кому-то довелось его видеть, кто-то списал надпись, но в инвентарных описях монастырского имущества он не фигурировал. В ответ на настойчивые расспросы исследователей настоятели второй половины XIX века утверждали, будто в ведении монастыря портрета никогда и не числилось. А между тем очевидцы помнили.
…Две крохотные комнатенки с подслеповатыми прорезями окон. Низкие потолки. Мутно поблескивающая в полумраке изразчатая печь. Пара нехитрых стульев. Просиженное кресло. Расшатанный стол. Старенькое, набитое мелочами бюрцо. Вытертый зеленоватый войлок полов. Портрет Елизаветы Петровны на стене. Застывший на десятилетия глухой, захлестнутый тишиной мирок, в котором замкнулась жизнь.
Может быть, в слухах была своя доля правды – сначала долгий разговор наедине с Екатериной. Увещевания. Доказательства. Обещания. Скрытые угрозы. Выбора все равно не существовало. И независимо от обещаний единственной дорогой стала дорога в церковь: темный коридор, крытая лестница, грохот засова, закрывавшего входную дверь. Единственное развлечение – богослужения все с тем же попом и тем же причетником, отвечавшими враждебным молчанием на каждую попытку заговорить, бросить пару ничего не значащих слов. Для редких и ненужных бесед была настоятельница, когда получала разрешение или приказ вступить с узницей в разговор. Даже ютившаяся в каморке келейница оказалась глухонемой. Оставалось довольствоваться хорошей едой – деньги специально отпускались казначейством – и правом ждать.
Ждать смены правлений. Сочувствия. Милосердия. Простого безразличия к тому, что с годами теряло свое значение и остроту. Иногда в монастыре появлялись высокие посетители, даже члены царской семьи. На имя узницы приходили от неизвестных лиц значительные денежные суммы. Но гости исчезали, а деньги по-прежнему тратить было не на что. Границы мирка оставались неизменными – при Екатерине II, Павле I, Александре I.
И ответом становится обет молчания, который принимает неизвестная – сухощавая невысокая женщина со следами былой красоты и горделивой осанкой привыкшего повелевать человека. Молчаливая по натуре, она с годами не потеряла лишь одной особенности – панического страха перед скрипом дверей, неожиданно возникавшими в полутьме тенями. Некому войти, некого ждать, и все же… Воспоминания о ее рассказах – всего лишь плод фантазии старавшихся придать себе значительности потомков.
Она понимала – нужен конец. Ее конец. «Натуральный». Благопристойный. С соблюдением всех предположенных монашеским чином обрядов. Чтобы все встало на свои места.
Тридцать восемь лет заключения в этих же стенах жены царевича Ивана Ивановича закончились торжественным ее погребением в Вознесенском монастыре Кремля – усыпальнице всех женщин царского дома. Тридцать три года Салтычихи – похоронами в Донском монастыре, где погребали всех Салтыковых. Инокиню Досифею ждал еще более пышный обряд похорон в Новоспасском монастыре, былой усыпальнице семьи Романовых, которую они не переставали почитать и ценить. С участием всего высшего московского духовенства – пусть и заменил якобы заболевшего митрополита его викарий. Главнокомандующего Москвы, многочисленной знати – если и не приехавшей лично, то приславшей для похоронной процессии свои украшенные фамильными гербами экипажи. Погребальный «кондукт» безвестной инокини растянулся едва ли не на полверсты. Ее могила стала местом всеобщих посещений.
И невольный вопрос: непредвиденные обстоятельства или заранее задуманный и срежиссированный эффект? Чего не ждали и на что именно рассчитывали те, кто должен был проводить в последний путь навеки замолчавшую Досифею?