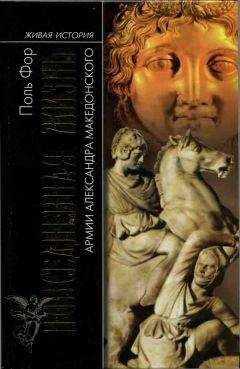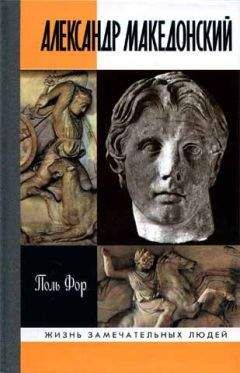Верность
Возможно, источники не учли некоторые незначительные собрания, как мы сами забыли о бурных собраниях различных родов войск после смерти царя (10 июня 323 года), собраниях, спровоцированных амбициозными наследниками покойного владыки (или взятых ими под контроль уже по ходу) и аннулировавших его последние проекты. Но все собрания, о которых нам известно, преследовали лишь три цели: урегулирование монархического наследования, начало военной кампании, осуждение преступлений против величества, и все ограничивались одобрением уже принятого решения, решения царя или его советников. Войско, собиравшееся лишь по предложению суверена или его советников, причем дата и место определялись исключительно ими, не имело никакого права на инициативу. Власть этих собраний оставалась исключительно консультативной. Можно даже спросить себя: имело там место хоть какое размышление? Инфантерия, как намекает на это латинское слово infans[27], уже стала великой немой, несмотря на все свои крики, ругань и ядовитые насмешки, несмотря на то, что сами древние были поражены относительной свободой слова, царившей в македонском войске, и легкой доступностью царской особы для военачальников любого ранга. Неужели все эти воины являлись простыми одобрялами? Подпевалами? Людьми, которыми по собственной прихоти манипулировали царь и его свита? То, что шесть раз из семи или семь раз из восьми 10–15 тысяч человек, обладающих греческим, столь индивидуалистическим духом свободы слова, ограничились лишь восторженным одобрением чужих решений — это слишком много, чтобы быть правдой. Из виду упускают то, что не вся Македония отправилась с завоевателем, но она сохранила верность его регенту Антипатру, как и то, что после первой же победы в Азии македоняне решили, что кампания закончилась и потребовали возвращения в Европу. Остается только понять, на чем держалась эта явная верность царской особе, поскольку она не основывалась ни на обычае (в македонском смысле слова nomos), ни на законе в греческом смысле этого же слова.
И здесь следует выделить два периода или, если хотите, целую эволюцию в поведении войска, изменение в умах и сердцах, словах и действиях. До лета 330 года, то есть до смерти Дария III, царя Персии, общего врага эллинистического мира, македоняне и их союзники имели общий со своим вождем интерес выиграть войну. Речь шла о свободе и деньгах. Освобождение греческих городов, своих братьев, от дани, которую им приходилось платить персам вот уже пятьдесят лет (Анталкидов мир, 386 год), знаменовало разрешение свободного обогащения. Победа над сатрапами Малой Азии, также имевшими при себе греческих наемников, дала возможность наложить лапу на топливо войны, на деньги: на золото Сард и Пактола, на серебро рудников Фригии и Армении, Памфилии и Киликии. Заставить Великого царя, правящего в глубинах Азии, перестать интересоваться всеми этими непокорными краями, омываемыми Черным и Средиземным морями, — например, теми, которые находятся по эту сторону Сангария и Галиса[28], а при случае и заставить его «заплатить» за преступления, совершенные его предшественниками в период с 520 по 480 год — какой великолепный повод одновременно обогатиться и расширить свои границы! На Анатолийском плоскогорье имелись не только солончаки, песчаные пустыни и скалы, но и прекрасные плодородные долины, озера, реки, леса, рудники — сколько земель для победителей… И напротив, поражение Александра стало бы поражением всей Греции. Всё это вовсе не является моим вымыслом или альбомом путевых зарисовок: это читается в рассуждениях, которые античные историки подготовили для Филиппа Македонского и его сына. Общность интересов распространялась не на одних лишь военных: сюда примешивалась еще и немалая толика чисто эмоциональной вовлеченности. Прикрываясь моралью, справедливостью, культурой (поскольку играть на этих побудительных причинах в уме воинов тоже приходилось), каждый, даже самый последний из оруженосцев македонского царя, рассчитывал на состояние или, по крайней мере, на жалованье, доход, превосходящий тот, который он мог получить на родной земле или в бесплодном море. Все надеялись на широко известную щедрость завоевателя. И когда после взятия казны в Газе в ноябре 333 года войско узнало, что для того, чтобы собрать все сокровища Великого царя, эти знаменитые дарики[29], чтобы овладеть его «парадисами»[30] и его охотничьими угодьями, чтобы иметь возможность развалиться на позолоченных ложах с его наложницами, нет иного средства, как идти вперед, оно уже не сомневается, что после окончательной победы весь Восток, «золотой, пурпурный и лазурный», станет вознаграждением его доблестным завоевателям.
До 330 года верность юному вождю, гегемону, чьи права подтверждены Коринфским союзом в 336 году, основывалась на другой форме отношений: вне учений и маневров каждый мог запросто к нему обратиться. Своими задушевными близкими, даже братьями царь, разумеется, признавал гетайров и друзей, поскольку их связывали с ним вино, кровь Диониса, и поцелуи, дыхание Амура. Но и пехотинцы фаланги, с которыми он говорил на их диалекте и которые во время маршей и во время расквартирования напрямую обращались к нему, шутили с ним и восхваляли его любезность и доступность. Очень вольный тон отношений между македонянами и их царем, равное право свободно выражаться (isegoria) удивляли античных историков, подчеркивавших трудности, которые испытывали, обращаясь к своим правителям, люди на Востоке. Известно, что к царю Персии подданные обращались, стоя на коленях и уткнувшись лбом в землю, и лишь самые важные придворные приветствовали его стоя, держа руку возле рта. В противоположность этому даже союзники царя Македонии обращались к нему как к равному, ожидая от него лишь любезности и щедрости. «Аристон, предводитель пеонийцев, убил врага (Сатропата) и сказал, показывая его голову Александру: "Такой дар считается у нас достойным золотого кубка". — "Всего лишь пустого кубка, — со смехом ответил Александр, — и я подарю тебе кубок, но сначала наполню его вином и выпью за твое здоровье"» (Плутарх. «Жизнь», 39, 2). Остается лишь удивляться той прямоте, которую ему приписывают и с которой он без прикрас отвечает. «Тебе следует поступать по-другому, когда ты хочешь сделать твоим друзьям добро и показать им это: в настоящее время ты ставишь их равными царям», — упрекает его в письме Олимпиада. А он отвечает ей, как какому-нибудь воину: «Перестань клеветать на меня, не неистовствуй и не грози. Впрочем, меня это мало беспокоит. Ты знаешь, что Александр сильнее всех» (Плутарх «Жизнь», 39, 7; Диодор, XVII, 114, 3).
Поскольку всякое начало кампании, всякое повышение в чине сопровождали клятва и религиозная церемония, пассивная и абсолютная покорность особе царя, этому защитнику и вдохновителю ритуалов, были простым следствием верности, в которой клялись. В течение десяти лет, которые длился поход, любой новобранец был вынужден торжественно клясться на крови жертв, — подобно тому, как в ту же самую эпоху говорил об этом и афинский эфеб: «Я не обесчещу мое священное оружие. Я не брошу своего товарища там, где стану в строй… Я буду надлежащим образом подчиняться всем своим начальникам, установленным правилам и тем, которые будут надлежащим образом установлены позднее» (Стелла из Ахарн, 330 год). Здесь нет никакого мистицизма. Никакого преклонения перед царской особой, наследником, представителем и жрецом Зевса на земле. Только вера в его заслуги, признание его превосходства, добровольное осознание того, что является честью служения, причем служения великому делу, делу государства, делу эллинизма, делу свободных людей. Я вижу в этой клятве, формулировка которой восходит, очевидно, к первым греческим кампаниям против азиатов на заре V века до нашей эры, не риторику, не словесную избыточность, а некий договор, санкционированный, кроме того, проклятием клятвопреступнику. Вождь обменивает свою военную сноровку, эту высшую милость, дарованную ему богами, на не ведающую устали силу своих людей. Ценой этого покупается победа. Победа не есть дело случая или удачи, простым итогом нашего неведения. Она является необходимым следствием добросовестно исполненного обязательства: если каждый отдает ей всё, как тело, так и душу, все козыри окажутся на ее стороне.
В греческих философских школах были популярны следующие рассуждения: обладал ли сын Филиппа благосклонностью судьбы или военной доблестью, был ли он более удачлив, чем отважен. Этот вопрос рассматривается в ученом трактате молодого Плутарха, написанном около 80 года нашей эры «Об удаче (tykhe) или доблести (arete) Александра». Простой воин, знавший, что на протяжении как минимум десяти лет Филипп II Македонский со своими стратегами и инженерами методично готовил вторжение в Азию, верил, что его наследник, образованный в созданной отцом школе, всё испытавший, всё просчитавший, в 334 году не мучился пустыми вопросами: он был уверен в победе. А после первых успехов лета 335 года этот солдат не просто доверял, он верил безоговорочно. А что говорить, когда, возведенный в ранг царских гетайров или в малое число его друзей, он связывал себя с царем настоящей клятвой с помощью чаши священного напитка и ритуального поцелуя! Точно также в другие времена и в других армиях люди связывали друг друга, смешивая свою кровь.