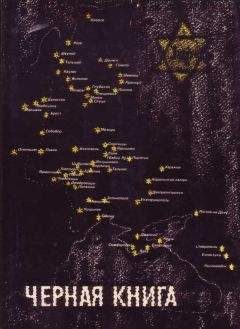Здесь были лагеря смерти, здесь пытали, разрывали на части, разбивали детские головы, заживо сжигали людей, обезумевших от страданий, от ужаса, от непереносимой муки.
Из сотен тысяч выжило всего несколько десятков. От них мы и узнали подробности зверской расправы.
Во всех устных и письменных рассказах уцелевших очевидцев, в их письмах и воспоминаниях, мы встречаемся с одним и тем же утверждением, что изобразить пережитое им не под силу.
”Надо обладать кистью художника, чтобы описать картины ужаса, который творился в Доманевке”, — рассказывает одесская женщина Елизавета Пикармер. ”Здесь погибали лучшие люди науки и труда. Сумасшедший бред этих людей, выражение их лиц, их глаз потрясали даже самых сильных духом. Однажды тут на навозе, рядом с трупами, рожала двадцатилетняя Маня Ткач. К вечеру эта женщина скончалась”.
У В. Я. Рабиновича, технического редактора одесского издательства, мы читали: ”Много-много можно написать, но я не писатель, и нет у меня сил физических. Ибо я пишу и вижу это вновь перед глазами. Нет той бумаги и пера, чтобы все описать в подробностях. Нет и не будет человека, который нарисовал бы картину нечеловеческих страданий, перенесенных нами, советскими людьми”.
Но они не могут молчать, они пишут, и к тому, что они поведали, ничего не нужно прибавлять.
Старый одесский врач Израиль Борисович Адесман диктовал воспоминания о пережитом своей жене, тоже врачу — Рахили Иосифовне Гольденталь.
Лев Рожецкий — ученик 7-го класса 47-ой школы Одессы — в очерках описал быт лагерей смерти, от Одессы до Богдановки.
”Мы жили в Одессе, — пишет В. Я. Рабинович, — и мы знали и понимали жизнь. Жить — это значило для нас работать, создавать культурные ценности. И мы работали. Сотни книг изданы мной (я был техническим редактором). В свободное время можно было проехаться с женой и детьми в Аркадию, к морю, покататься на лодке, ловить рыбу, купаться. В свободное время я мог почитать, побывать в театре. Мы жили просто, как жили миллионы людей в великом нашем Советском Союзе. Мы не знали, что такое национальный гнет, мы были равноправны в многонациональной нашей Родине!
Трагические даты Одессы: 16 октября 1941 года — в этот день Одессу заняли румынские войска; 17 октября 1941 года — день, когда румынские власти объявили регистрацию еврейского населения, 24 октября — день отправки евреев в гетто, в местечко Слободка, то было преддверием к лагерям уничтожения, расположенным на равнине смерти, за городом. Изгнание туда евреев наступило несколько позднее.
Ночь на 16 октября была страшна для евреев, которые не успели или не могли эвакуироваться. Страшна для стариков и старух — они не в состоянии были уйти, для матерей, чьи дети ходить еще не умели, для беременных женщин, для больных, прикованных к постели.
Это была страшная ночь для разбитого параличом профессора математики Фудима. Его вытащили из кровати на улицу и повесили. Профессор Я.С. Рабинович, невропатолог, выбросился из окна, но к несчастью, не убился насмерть. Он получил тяжелые увечья, он еще дышал и находился в сознании. У его разбитого тела стояла вооруженная охрана. Ему плевали в лицо, в него кидали камнями”.
Гитлеровцы, заняв Одессу, в первую очередь начали уничтожать врачей. Это была ненависть профессиональных убийц к тем, чье призвание — продлить жизнь людей, избавлять их от страданий.
В первые же дни убиты 61 врач с их семьями.
В смертном списке — исконные врачебные фамилии, известные с детства каждому одесситу: Рабинович, Рубинштейн, Варшавский, Чацкин, Поляков, Бродский... Доктор Адесман спасся только благодаря тому, что был зачислен консультантом больницы в гетто, в Слободке. Но до этого ему пришлось пройти через все издевательства и пытки, связанные с регистрацией, а потом — испытать все ужасы Доманевки, одного из самых страшных лагерей смерти на черноморской равнине.
17 октября 1941 года, на другой день после занятия Одессы румынами, началась регистрация евреев.
Регистрационных пунктов было несколько. Оттуда часть людей вели на виселицы или к могильным рвам, часть отправляли в тюрьму. Меньшинству было разрешено вернуться в свои разграбленные квартиры. Это была отсрочка смерти, не более.
— Тот пункт, куда погнали меня и мою жену, — рассказывает доктор Адесман, — помещался в темном и холодном здании школы. Нас там собрали свыше 500 человек. Сидеть было негде. Мы провели всю ночь стоя, тесно прижатые друг к другу. Мы изнемогали от усталости, голода, жажды и неизвестности. Всю ночь слышался плач детей и стоны взрослых.
Утром из нескольких групп, подобных нашей, был составлен эшелон в 3—4 тысячи человек. Всех погнали в тюрьму. Тут были и глубокие старики, и калеки на костылях, и женщины с грудными детьми. В тюрьме многие умерли от истощения и побоев.
Многие покончили жизнь самоубийством.
23 октября 1941 года партизаны взорвали здание румынского штаба, где погибло несколько десятков румынских солдат и офицеров. В ответ на это оккупанты залили город еврейской кровью.
На стенах было развешано объявление, что за каждого погибшего офицера подлежит повешению 300 русских или 500 евреев. Но в действительности, эта ”расценка” была превышена в десятки и сотни раз.
23 октября 1941 года из тюрьмы было выведено 10 тысяч евреев. За городом их всех уложили из пулеметов... 25 октября снова было выведено несколько тысяч евреев, и динамитом был взорван амбар, в котором они находились.
Технический редактор В. Я. Рабинович, тот самый, который летом отправлялся с детьми в Аркадию (как чудовищно звучит теперь это идиллическое название), описывает город в первые недели оккупации. ”23 и 24 октября, куда ни кинешь глазом, кругом виселицы. Их тысячи. У ног повешенных лежат замученные, растерзанные и расстрелянные. Наш город представляет из себя страшное зрелище: город повешенных. Долго нас вели по улицам, напоказ. А немцы и румыны разъясняли: ”Все эти евреи, вот эти старики, старухи, женщины, дети — виновники войны. Это они напали на Германию. И теперь их за это надо уничтожать” ...Ведут и постреливают. Падают убитые, ползут раненые. А вот и Ново-Аркадийская дорога к морю (к знаменитым курортам). Тут глубокая яма. Приказ: ”Раздеваться догола!.. Быстро, быстро!..” Крики. Прощания. Многие рвут на себе одежду, и их колют за это штыками. Убийцам нужны вещи.
Румыны и немцы пробуют силу штыка на крошечных детях. Мать дает ребенку грудь, а румынский солдат сумел штыком забрать его от матери и с размаха бросить в яму мертвых”.
Другие два очевидца, Большова и Слипченко, тоже рассказывают, как евреев в городе становилось все меньше и меньше. Каждый день по улицам шли этапы оборванных людей. Адская машина уничтожения работала безотказно.
”Вот идет в толпе человек небольшого роста, голова глубоко втянута в плечи. Высокий, выпуклый лоб, вдумчивые глаза. Кто он? Варвар, убийца, преступник? Нет, это крупный ученый, невропатолог, доктор Бланк, настолько отдавший себя науке, своим больным, своей клинике, что пренебрег приближающейся опасностью. Он до конца выполнил свой долг врача — не оставил больных. Рядом с доктором Бланком идет другой врач, с повязкой Красного Креста на рукаве. Это немолодой, грузный человек, страдающий одышкой, с больным сердцем. Постепенно он отстает, но тут румынский жандарм бьет его палкой по голове. Из последних сил врач ускоряет шаги, но скоро падает... Его бьют палкой по глазам. ”Убейте”, — раздается его вопль. И две пули пробивают его голову.
Вот еще один худой, высокий старик, с ясными и умными глазами. Русские женщины, глядя ему вслед, вытирают слезы. Какая мать не знает его? Это доктор Петрушкин, старый врач по детским болезням.
Не было такой клеветы, такой нелепицы, которую румыны не возводили бы на евреев.
Анна Маргулис, бывшая стенографистка на судостроительном заводе им. Марти, пожилая женщина, рассказывает:
— 29 октября 1941 года мой умирающий отец пытался зажечь лампу. Зажженная им спичка выпала из его слабой руки, и загорелось одеяло. Я все погасила в одну секунду. В тот же вечер сосед-румын донес полиции, что я хотела поджечь дом. Утром я была арестована и брошена в тюрьму, где было еще 30 женщин. При допросе меня начали избивать дубинками, прикладами, резиновыми шлангами. Я потеряла сознание.
Ночью, когда кругом была беспросветная тьма, к нам ворвалась толпа румынских солдат. Бросив на сырой пол свои шинели, они начали насиловать девушек. Мы, старые женщины (мне 54 года) сидели и плакали. Многие девушки сошли с ума.
Но все это было только преддверием к ужасам городского гетто, а само гетто — к равнине смерти.
”Евреи, погибшие в первые дни оккупации, были наиболее счастливыми из своих собратьев”. Эта фраза одного из одесских евреев не требует пояснений.
”В гетто на Слободку должны были явиться все: паралитики и калеки, инфекционные больные и умалишенные, и роженицы. Одни шли сами, других вели их близкие, третьих несли на руках. Лишь немногие имели счастье умереть на своей постели. В первый же день, проведенный на Слободке, люди поняли, что ”жизни” в гетто не может быть”. Помещений не хватало. Люди толпились на улицах. Больные стонали и валились прямо в снег. Румыны топтали упавших лошадьми. Раздавался плач замерзающих детей. Крики ужаса, мольбы о пощаде.