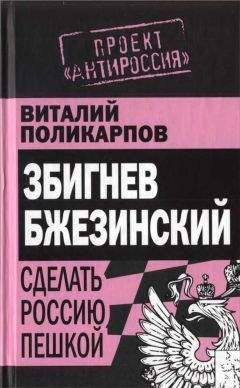Появление бюрократической машины в России является закономерным — она приходит на смену системе средневекового управления, основанного на обычае. Бюрократия стала необходимым элементом структуры государств нового времени, однако в условиях специфического российского самодержавия, «когда ничем и никем не ограниченная воля монарха — единственный источник права, когда чиновник не ответственен ни перед кем, кроме своего начальника, создание бюрократической машины стало и своеобразной «бюрократической революцией», в ходе которой был запущен вечный двигатель бюрократии» (4, 204–205). С этого времени начала разливаться река российского чиновничества: по оценкам исследователей, в 1738 г. насчитывалось около 5,3 тыс. чиновников, в 1857 — 86,1 тыс., вместе с канцелярскими служителями — около 122,2 тыс., а в 1910 г. — около 576 тыс. (169, 137, 247, 91). Таким образом, бюрократия численно увеличилась в сотню раз, обогнав рост населения России в десятки раз. Понятно, что с петровских времен бюрократия стала функционировать по своим внутренним законам, что сделало «номенклатуру» неуязвимой и до сих пор.
Российское чиновничество было неоднородно по своему социальному составу, причем в численном отношении эта неоднородность росла — если в середине XVIII века около 28 % всей бюрократии составляли выходцы не из дворянских сословий (разночинцев, церковников, крестьян, низших военных чинов и др.), то уже на рубеже XVIII и XIX столетий таковых было свыше половины (169, 139). Одновременно шел процесс уравнивания царской «номенклатуры» в правах с родовитой знатью — он выражался с XVIII века пожалованием земель и награждением орденами, а после отмены крепостного права — разрешением на скупку земель разорившихся помещиков. Окончательно это уравнение произошло к началу XX века.
Естественно, что российская бюрократия делилась внутри себя: слой высших чиновников («номенклатурщики» — 1–4‑го рангов), «класс» средних чиновников (ранги от 10‑го до 6‑го: поручик — полковник) и чиновничья «мелкота» (XIV–XI ранги). Высшим чиновникам, почти всем бывшим из потомственных дворян, их образу жизни и нравам стараются подражать чиновники среднего слоя, а за этими тянутся мелкие. И здесь действует правило «низшие подражают высшим»; особенно наглядно это проявляется в нравах, хотя здесь имеются свои особенности из–за разницы в положении по принципу «что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку».
Петр Великий щедрой рукой раздавал княжеские и графские титулы беспородным, но талантливым простолюдинам — Меньшикову, Шафирову, Ягужинскому, Румянцеву и др. Но и на этих бывших «простолюдинов», занимавших высокие посты в бюрократической номенклатуре, оказал свое растлевающее влияние старый русский приказный быт с его «поминками и посулами» и волокитой. Подобно своим старомосковским предшественникам (судьям приказов, дьякам и подъячим) ближайшие сотрудники Петра Великого «ко взятию руки скоро допускали». Различие состояло только в том, что последние, позаимствовав у европейской культуры внешний лоск и блеск и имея больше стремления к благам жизни, больше брали и крали. Тот же Меньшиков, которого царь называл «Мейн герц–брудер» и высоко ценил, был нечист на руку, грабил миллионами; его Петр угощал только дубинкой, говоря: «Вина не малая, да прежние заслуги больше ея!» (124, 609). И в то же время за взяточничество и казнокрадство многие из сподвижников императора побьшали под судом и уплатили денежный штраф, а некоторые потеряли голову на плахе. Отсюда и необыкновенная строгость его законодательства, обилие в нем статей, предусматривающих казнь, и «Тайная канцелярия», рассматривавшая злоупотребления и воровство и пытавшая до смерти злоумышленников.
Однако практически все «птенцы» гнезда Петрова крали в невиданных ни до, ни после размерах и масштабах. Известно, что Меньшиков последние 15 лет своей жизни провел под судом за систематическое воровство, о котором прекрасно был осведомлен Петр Великий. Историк В. Ключевский дает весьма выразительную характеристику действиям «птенцов» после смерти великого реформатора: «Они начали дурачиться над Россией тотчас после смерти преобразователя, возненавидели друг друга и принялись торговать Россией, как своей добычей» (250а, 456–457).
Возникает вопрос: во что обошлись России эта торговля и это воровство? В связи с этим И. Солоневич пишет следующее: «Этим вопросом не удосужился заняться ни один историк, а вопрос не очень праздный. Дело осложняется тем, что воруя, «птенцы, товарищи и сыны» прятали ворованное в безопасное место — в заграничные банки. «Счастья баловень безродный» Алексашка Меньшиков перевел в английские банки около пяти миллионов рублей. Эта сумма нам, пережившим инфляции, дефляции, девальвации экспроприации и национализации, не говорит ничего. Для оценки вспомним, что, весь государственный бюджет России в начале царствования Петра равнялся полутора миллионам, в середине — несколько больше, чем трем миллионам, и к концу — около десяти. Так что сумма, которую украл и спрятал за границей Меньшиков, равнялась, в среднем, годовому бюджету всей Империи Российской. Для сравнения представим себе, что министр Николая II украл бы миллиардов 5 в золоте или сталинских миллиардов полтораста — в дензнаках. За Меньшиковым следовали и другие. Но не только «птенцы», а всякие более мелкие птенчики. «Финансовое доверие» было организовано так прочно, что в начале Северной войны понадобился указ, запрещающий деньги «в землю хоронить» — не всем же был доступен английский банк, хоронили и в землю. У каких–то Шустовых на Оке нашли по доносу на 700 000 рублей золота и серебра. Сколько было таких Меньшиковых, которые сплавляли за границу деньги, и таких Шустовых, которые прятали свои деньги от меньшиковского воровства, а воровство развилось совершенно небывалое. М. Алданов в своих романах «Заговор» и «Чертов мост» рисует, как нечто само собой разумеющееся, переправу чиновых капиталов в амстердамские банки. Речь идет о конце екатерининской эпохи. Надо полагать, что эта традиция далеко пережила и Екатерину. Сколько капиталов в результате всего этого исчезало из русского народнохозяйственного оборота, сколько погибло в земле и — вопрос очень интересный — сколько их было использовано иностранцами для обогащения всяких голландских, английских и прочих компаний? Историки этим не поинтересовались, — по крайней мере, я не знаю ни одного труда на эту тему. А вопрос может быть поставлен и в чрезвычайно интересной плоскости: выколачивая из мужика самым нещадным образом все, что только можно было выколотить, с него драли семь и больше шкур. Какой–то процент шел все–таки на какое–то дело. Огромная масса средств пропадала совершенно зря — гнили и дубовые бревна, и полковые слободы, и конская сбруя, и корабли, и Бог знает, что еще. Какой–то процент, судя по Меньшикову, очень значительный утекал в заграничные банки. Заграничные банки на шкуре, содранной с русского мужика, строили мировой капитализм, тот самый, который нынче товарищ Сталин пытался ликвидировать с помощью той же шкуры, содранной с того же русского мужика (250а, 457–458). Однако не будем заходить так далеко (для описания нравов советской России требуется отдельная книга) и вернемся к нашему историческому контексту.
О злоупотреблениях А. Меньшикова и других помощников Великого Петра давно известно и отражено в соответствующей литературе, посвященной петровской эпохе. В биографическом очерке «Меньшиков» Б. Д.Порозовская пишет: «О злоупотреблениях Меньшикова, о его лихоимстве писали очень много. Это такие же общеизвестные факты его биографии, как его низкое происхождение и печальный конец, выставляемый обыкновенно, как «достойный плод его злонравия». Но одними голыми фактами нельзя довольствоваться при произнесении приговора. В применении к историческому лицу необходимо еще обратить внимание на нравы всей эпохи, необходимо выяснить, в какой степени при данном, и бесспорно, предосудительном образе действия велико было его уклонение от того общего уровня нравственности, каковой существовал в современном ему обществе» (20, т. 1, с.239). Несомненно то, что великий Преобразователь всю жизнь безуспешно боролся со взяточничеством и казнокрадством — глубокими застарелыми язвами допетровского русского общества, когда государственные должности считались источником обогащения.
Взяточничество, нечестное обогащение и связанное с ними жестокое обращение с представителями различных сословий процветало и во время царствования Анны Иоанновны — в эпоху бироновщины. Указом императрицы был создан особый «доимочный приказ», имевший полную свободу действий при возникновении недоимок. Князь П. Долгоруков красочно описывает картину сбора недоимок в своих «Записках»: «Посылался взвод солдат под начальством офицера в город или деревню, и производилась экзекуция. Экзекуция состояла в том, что у зажиточных обывателей забирали все вещи, мебель, весь домашний скарб, выводили лошадей, скот, и все продавали с молотка до баснословно низкой цене. Если вырученная сумма не покрывала сумму причитающихся с города недоимок — собственников проданного с молотка имущества арестовывали, заковывали в кандалы; сажали в тюрьму и оттуда ежедневно выводили на площадь перед судом на правеж; несчастных выгоняли с босыми обнаженными до колен ногами, даже зимой по глубокому снегу, в лютый мороз, — и били батожьем по икрам до крови. Дворян–помещиков также заковывали в кандалы, сажали в тюрьму на хлеб и воду… Если сбор недоимок бывал затруднителен… тогда из Петербурга командировался гвардейский офицер, уполномоченный сечь, пороть кнутом, сажать в тюрьму и кандалы всех в уезде, начиная с воеводы. Дело разрешалось обыкновенно уплатой офицеру громадных взяток, особенно, если это был немец… Такие командировки считались весьма доходными, и Липпманн, придворный банкир, торговал ими: продавалось право ехать взимать недоимки в том или ином уезде» (104, 127–128). В итоге целый ряд деревень обезлюдели, ибо жители бежали от такого рода экзекуций, поля были заброшены, повсеместно «вспыхивал» голод, а в руки Бирона поступали миллионы.