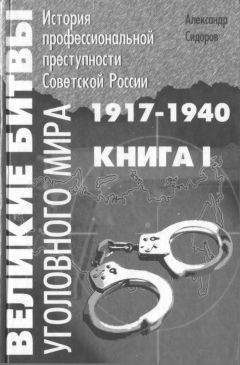Поэтому «фашистов» и «предателей» арестантский мир встречал чуть ли не с благодарностью: ведь чем больше и быстрее их сажали, тем скорее уходили на волю уголовники.
Александр Солженицын подчёркивает в «Архипелаге ГУЛАГ» одно обстоятельство, которое делало амнистию 1945-го года особенно оскорбительной и унизительной по отношению к бывшим фронтовикам:
Освобождались начисто все, кто обворовывал квартиры, раздевал прохожих, насиловал девушек, растлевал малолетних, обвешивал покупателей, хулиганил, уродовал беззащитных, хищничал в лесах и водоёмах, вступал в многоженство, применял вымогательство, шантажировал, брал взятки, мошенничал, клеветал, торговал наркотиками, сводничал, вынуждал к проституции…
Но ничто не было так растравно бывшим фронтовикам и пленникам, как поголовное всепрощение дезертиров военного времени! Все, кто, струсив, бежал из частей, бросил фронт, не явился на призывные пункты, многими годами прятался у матери в огородной яме, в подпольях, в запечъях… — все они, если только были изловлены или сами пришли ко дню амнистии, объявлялись теперь равноправными несудимыми советскими гражданами…
Те же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто принял за родину удар и поплатился за него пленом, — тем не могло быть прощения, так понимал Верховный Главнокомандующий.
Понятно, что освобождение уголовников отрицательно сказалось на состоянии правопорядка в обществе и привело к повышению уровня преступности.
Александр Солженицын в день освобождения из лагеря.Итак, в ГУЛАГ влилась разношёрстная, но профессиональная, закалённая в боях армия. И это существенно повлияло на жизнь «архипелага».
Прежде всего изменения почувствовали «блатные». Вояки даже в арестантской робе отличались от безропотных «мужиков» и забитых «политиков». Некоторые из армейцев даже в одиночку не боялись ввязываться в схватку с блатной «кодлой» (особенно если эти одиночки имели опыт службы в фронтовой разведке, морской пехоте и т. д.).
Об одном из таких случаев рассказывает Александр Солженицын:
На Куйбышевской пересылке, где мы загорали больше месяца, тоже настигли нас чудеса. Из окон соседней камеры вдруг раздались истеричные, истошные крики блатных (у них и скуление какое-то противно-визгливое): «Помогите! Выручайте! Фашисты бьют! Фашисты!»
Вот где невидаль! — «фашисты» бьют блатных? Раньше всегда было наоборот.
Но скоро камеры пересортировывают, и мы узнаём: пока ещё дива нет. Есть только первая ласточка — Павел Баранюк, грудь как жернов, руки — коряги, всегда готовые и к рукопожатию и к удару, сам чёрный, нос орлиный… Он — фронтовой офицер, на зенитном пулемёте выдержал поединок с тремя «Мессерами»; представлялся к Герою, отклонён Особым отделом; посылался в штрафную, вернулся с орденом…
Блатных он уже успел раскусить за то время, что ехал из новоград-волынской тюрьмы, и уже дрался с ними…
Вся камера была — Пятьдесят Восьмая, но администрация подкинула двоих блатарей… Согнав двоих, блатари бросили свои мешки на законные места и пошли вдоль камеры просматривать чужие мешки и придираться. И Пятьдесят Восьмая…, она не сопротивлялась.
Шестьдесят мужчин покорно ждали, пока к ним подойдут и ограбят… Баранюк… ворочал своими грозными глазищами и соображал, как драться. Когда один блатной остановился против него, он свешенной ногой с размаху двинул ему ботинком в морду, соскочил, схватил прочную деревянную крышку параши и второго блатного оглушил этой крышкой по голове. Так и стал поочерёдно бить их этой крышкой, пока она разлетелась…
Доставалось от фронтовиков не только блатарям. Лев Копелев вспоминает о другом арестанте из «вояк»:
Широкоплечий, широколицый хромой лётчик Алексей. Его тяжёлый самолёт — тихоход ТБ-3 подбили ещё в начале войны. Он раненый попал в плен, едва подлечился — убежал из вагона в Восточной Пруссии; несколько пленных лётчиков и танкистов разобрали пол в товарном вагоне и по одному вывалились на рельсы… До зимы он воевал на лесных дорогах, командовал партизанским взводом, потом всё же перешёл через фронт и вернулся в свою часть… Он женился на лётчице из женского полка. У них родилась дочь. Но и жена осталась в строю. После «декрета» опять летала. В 1944 году он поехал с фронта в командировку выколачивать приборы. В Москве на вокзале его арестовали у транзитной кассы. Следователь сказал, что его жена улетела к немцам и, значит, это он её послал, значит, он вернулся из плена по заданию. Следователь назвал его фашистом. Он ударил следователя стулом, разбил в кровь голову…
Однако следует отметить, что в массе своей бывшие фронтовики на первых порах не делали погоды в лагерях. Попав в новую, незнакомую обстановку, эти люди зачастую терялись. Среди них не наблюдалось такой сплочённости, как у представителей блатного сообщества, объединённых «воровской идеей», уголовными «традициями» и «понятиями». В местах лишения свободы поначалу фронтовики превращались в разрозненную массу арестантов. Конечно, лихие разведчики или отчаянные морские пехотинцы могли за себя постоять и дать отпор «оборзевшим» блатарям. Но нужно было определённое время, чтобы они объединились и стали реальной силой в лагерном мире.
Сказалось и глубокое потрясение, которое испытывал каждый боец, попадавший «за колючку». Он замыкался в себе, пытаясь осмыслить, что ему придётся провести в «зоне» срок, равный чуть ли не половине человеческой жизни! За что?!
Слева направо: Лев Копелев, Александр Солженицын, Дмитрий Панин — бывшие узники ГУЛАГа, обитатели сталинской «шарашки». 1968 г.О некоторых категориях арестантов из числа «вояк» следует сказать особо.
Была большая разница в реакции на своё новое положение со стороны фронтовиков, впервые увидевших места лишения свободы, и тех офицеров и солдат, которые попали в сталинские концлагеря из концлагерей гитлеровских. Последняя категория «автоматчиков» выжила буквально в нечеловеческих условиях (созданных для советских военнопленных не только фашистами, но и самим Сталиным, который предал своих солдат, отказавшись вносить за них деньги в Международный Красный Крест. Тем самым бойцы Красной Армии не подпадали под решения Женевской конференции о гуманном отношении к военнопленным. С ними можно было поступать, как заблагорассудится…).
Да, эти люди были тоже потрясены тем, как подло поступила с ними родная власть. Они тоже сначала надеялись на справедливость. Но у тех, кто прошёл Бухенвальд, Освенцим, Дахау и другие «кузницы смерти», сформировалась главная черта характера — несгибаемость. Умение выжить и сохранить человеческое достоинство в таких условиях, по сравнению с которыми быт сталинских лагерей можно считать черноморской здравницей.
Это — не преувеличение. Мы привыкли читать об ужасах ГУЛАГа. Но как-то в тень ушли ужасы фашистских концлагерей. А вспомнить о них необходимо. Хотя бы для того, чтобы представить, какого рода пополнение пришло в советские места лишения свободы после войны.
Обратимся к воспоминаниям Леонида Самутина о том, как жили военнопленные красноармейцы в Сувалках — германском лагере смерти.
Лагерный гулаговский барак для узников фашистских застенков мог считаться комфортабельным отелем:
Мы живём в норах, которые выкопали сами. Крышки от котелков, ложки, какие-нибудь дощечки и черепки, наконец, собственные ногти — вот наш шанцевый инструмент. Но и копать нору нужно обязательно… Ночью никто не должен находиться на поверхности земли на территории блока. С вышек всю территорию лагеря непрерывно обшаривают прожекторами и по каждой появившейся фигуре начинают стрельбу…
Нора — это нора. Дыра в земле, чтобы пролезть, яма глубиной по плечи человеку среднего роста. Внизу — колоколообразное расширение, чтобы двое или даже трое могли лежать на боку, поджав ноги. Выпрямиться негде. Размер ямы строго ограничен пределом прочности кровли… Каждое движение, а переворачивание особенно, вызывает падение струек песка с кровли. Песок сыплется в уши, в глаза и за шиворот…
С наступлением зимы были выкопаны землянки длиной 30 метров, шириной 6… Внутри землянок продольные нары в два этажа, нижний — совсем низко над землёй. Ещё оставшиеся в живых обитатели нор перебрались в эти землянки.
Спуск в землянку по лестнице прямо с улицы, без всякого тамбура. Посредине — железная печка. Тепла, конечно, не хватает на всех, постоянно драки за места у печки, поближе к печке.