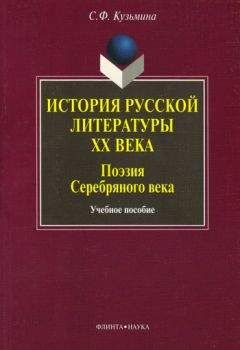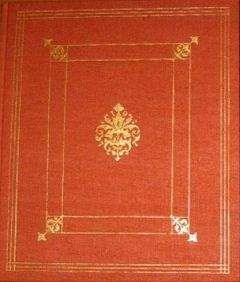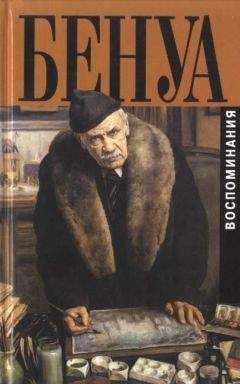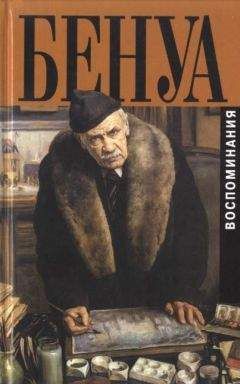Сила поэтического слова Мандельштама направлена на исследование Логоса и «тайного плана» мироздания, открывающихся в здании – храме культуры (стихотворение «Notre Dame»). «Камень» – тот «кирпичик», который достраивает этот храм и дает возможность новых творческих построений, так как вписан в давно заданную архитектурную сверхцель зодчества и не нарушает общего гармоничного равновесия мировой архитектоники.
Мандельштам чуток к музыкальной полифонии, но в его поэзии музыка, в отличие от поэзии символистов, не играет первостепенной роли. Одна из важнейших тем ранней поэзии Мандельштама – тема «зодчества», духовного самоопределения, внутреннего строительства, которое невозможно без освоения горизонтов мировой культуры (Стихотворения «Айя-София», «Notre Dame») и внутреннего духовного самоопределения.
Поэт виртуозен в передаче «чужих снов», выявлении актуальных смыслов в «вечных образчиках» культуры, в передаче момента «рождения» – слова, образа, мысли, «сна» («Она еще не родилась, / Она и музыка и море, / И потому всего живого / Ненарушаемая связь»). Мандельштам создает сложную стихотворную «вязь» метафор, каждая из которых насыщена историко-культурными коннотациями и смысловыми ассоциациями: море, Гомер, любовь, странствия Улисса, ощущение трагической отъединенности от мира и чувство полновластия вечной красоты, поиск смысла в человеческих странствиях слиты воедино в «темных» строках Мандельштама:
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер – все движется любовью,
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Название второго сборника стихотворений Мандельштама «Tristia» (1922; в переводе с латинского – жалобные песнопения) отсылает к элегиям изгнанника Овидия, чей образ присутствует и в самом сборнике, запечатлевшем, с одной стороны, растерянность перед грозными событиями истории, а с другой – способность слова-образа, насыщенного культурными реминисценциями и ассоциациями, ухватывать самую суть как мгновения, так и целой эпохи. Предреволюционное и революционное время воспринимается как космический катаклизм, наказание блуждающим небесным огнем, в зареве которого несется новый ковчег Ноя, «чудовищный корабль», не способный дать жизнь и бессмертие погибающему городу. Петрополь, город жизни, превращается в акрополь, город смерти, который не сможет оживить «прозрачная весна»:
На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.
На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда мерцает.
О если ты звезда – воды и неба брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.
Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет —
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.
Прозрачная звезда над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает.
О если ты звезда – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает.
Стихотворения Мандельштама 1920-х гг. «Век», «Грифельная ода», «1 января 1924», «Нашедший подкову» тяготеют к эпическому постижению действительности, совмещают трагически-идеальное и земное, историческое. Исповедальное начало соседствует с пророческим и сокровенным, иногда трудно расшифровывающимся. «Водоворот» времени, повторения рождений и смерти, памяти и полного забвения предстают в вечном образе розы, которая когда-то «была землею», и только «плуг» времени выявил ее мгновенную и вечную красоту:
Сестры – тяжесть и нежность – одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.
Словно темную воду я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!
В стихотворении «Век» поэт создает образ века-зверя, у которого разбит позвоночник; во имя неизвестного грозного тотемного бога принесена страшная жертва: «Снова в жертву, как ягненка, / Темя жизни принесли»; жизнь находится «в плену»; она может освободиться благодаря «флейте» (образ, возможно, связан с мифом об Евридике и Орфее, чья флейта могла превозмочь силы смерти). Поэт провидит будущее природной жизни, но неизвестно, останется ли в ней место человеку и творчеству:
И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век.
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.
Сборник «Стихотворения» (1928) стал последним прижизненным изданием стихотворений Мандельштама, он подвергся цензурному вмешательству. В приведенном ниже стихотворении эпитет «советский» отсутствовал.
В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.
Исследователей поэзии Мандельштама привлекает принципиальная семантическая открытость, нарративность его произведений. Они становятся потенциальной культурной парадигмой, развертывающей микро– и макросмыслы истории-культуры (для поэта эти понятия не полюсны и не тождественны, а образуют единство), которые «упакованы» в слове-образе, накопившем свою энергетическую емкость», благодаря всем предшествующим коннотациям и «воплощениям». Н. Богомолов указывает, что «современные исследователи определяют поэзию Мандельштама как «потенциальную культурную парадигму», стихотворение предстает как текст, потенциально заключающий в себе огромное богатство знаний и представлений о данном этапе развития человечества. В читательском восприятии этот текст должен разворачиваться, наполняясь реальным содержанием в зависимости от уровня читательских знаний об этих словах – знаках, с которыми они связаны» [136].
Так, стихотворение «На розвальнях, уложенных соломой» включает множественность толкований: биографических, исторических, культурологических с пророческими и профетическими оттенками.
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые соломой роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали знакомою Москвой.
Эта строфа окунает нас в атмосферу встречи Мандельштама и М. Цветаевой, которая «дарила» поэту в марте 1916 г. Москву. Воробьевы горы были памятны для Мандельштама тем, что когда-то здесь клялись в вечной дружбе и жизни Н. Огарев и А. Герцен. Мимо Воробьевых гор везли Алексея, сына Петра I, из Москвы на смертную казнь в Петербург (в марте 1718 г.). Обращаясь к поэту, М. Цветаева писала:
Чьи руки бережные трогали
Твои ресницы, красота,
Когда и как, и кем, и много ли
Целованы твои уста – не спрашиваю,
Дух мой алчущий переборол сию мечту.
В тебе божественного мальчика
Десятилетнего я чту…
Ощущение чистоты отрочества, хрупкости жизни, весны и влюбленности у Мандельштама переплетается с предощущением исторических кардинальных изменений жизни, которые вот-вот наступят. В то время как М. Цветаева «дарит» поэту «сорок сороков» Москвы, которая через год станет столицей новой России, в его памяти возникают образы мальчика-царевича Димитрия, сына Иоанна Грозного, убитого в Угличе, со смертью которого в 1594 г. прервалась династия Рюриковичей и наступила эпоха Смуты, и царевича Алексея, убитого отцом Петром I, отменившим ранее существовавшие правила престолонаследования. Перенесение столицы из Петербурга в Москву после Октябрьского переворота закончит петербургский период истории. Мимо Воробьевых гор провезут и последнего наследника Романовской династии, больного цесаревича, также Алексея, чтобы затем всю царскую семью 17 июля 1918 г. расстрелять, бросить в колодцы и сжечь («И рыжую солому подожгли…»). Все эти события, как в прошлом, так и в будущем, кажется, соприсутствуют в стихотворении:
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели, а три встречи, —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече, —
И никогда он Рима не любил.
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли.
Царевича везут, немеет страшно тело,
И рыжую солому подожгли.
Стихотворение оказывается «встроенным» в глубокую философскую и историософскую перспективы. Если ключ к словам про таинственные «три встречи» отыскать в посвященной Софии Божественной Премудрости поэме Вл. Соловьева «Три свидания», широко известной в начале века, то «он» (в словах «и никогда он Рима не любил») – это Вл. Соловьев, в философии которого римская тема и «византизм» актуализируются в отношении России. Концепция Москвы – третьего Рима, впервые сформулированная старцем Филофеем [137], обретает в контексте стихотворения Мандельштама и мета-тексте будущих исторических событий (убийство последнего наследника Романовых, арест, ссылка и смерть в лагере самого поэта) новую, трагическую тональность. Словами «На розвальнях, уложенных соломой, / Мы ехали…»; «По улицам меня везут без шапки / И теплятся в часовне три свечи» поэт отождествляет себя с обреченным царевичем («царевича везут» – «меня везут»). Две возможные ассоциации царевича – и Димитрий, и Алексей – не противоречат друг другу: по принципу дополнительности автор применяет триаду – три свечи, три встречи, три убийства, три жертвы. Третий Рим становится символом прямой насильственной власти, которой не сопротивляется народ: «худые мужики и злые бабы / Переминались у ворот». Пушкинские слова «Народ безмолвствует», которыми заканчивается трагедия «Борис Годунов», претворены в глагол «переминались», неполнота действия которого подчеркивает давление надличной власти.