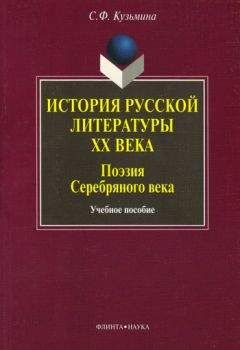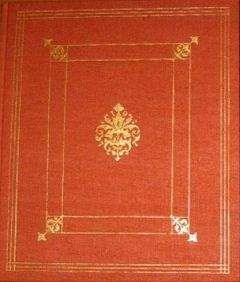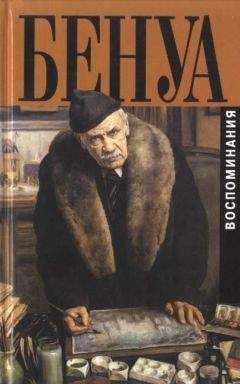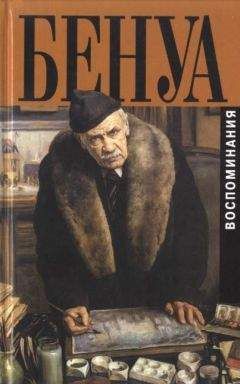Стихотворение оказывается «встроенным» в глубокую философскую и историософскую перспективы. Если ключ к словам про таинственные «три встречи» отыскать в посвященной Софии Божественной Премудрости поэме Вл. Соловьева «Три свидания», широко известной в начале века, то «он» (в словах «и никогда он Рима не любил») – это Вл. Соловьев, в философии которого римская тема и «византизм» актуализируются в отношении России. Концепция Москвы – третьего Рима, впервые сформулированная старцем Филофеем [137], обретает в контексте стихотворения Мандельштама и мета-тексте будущих исторических событий (убийство последнего наследника Романовых, арест, ссылка и смерть в лагере самого поэта) новую, трагическую тональность. Словами «На розвальнях, уложенных соломой, / Мы ехали…»; «По улицам меня везут без шапки / И теплятся в часовне три свечи» поэт отождествляет себя с обреченным царевичем («царевича везут» – «меня везут»). Две возможные ассоциации царевича – и Димитрий, и Алексей – не противоречат друг другу: по принципу дополнительности автор применяет триаду – три свечи, три встречи, три убийства, три жертвы. Третий Рим становится символом прямой насильственной власти, которой не сопротивляется народ: «худые мужики и злые бабы / Переминались у ворот». Пушкинские слова «Народ безмолвствует», которыми заканчивается трагедия «Борис Годунов», претворены в глагол «переминались», неполнота действия которого подчеркивает давление надличной власти.
В сборнике «Tristia» совершило свой круг «Солнце»: от черного «дикой страсти», желто-черного разрушенного Иерусалимского храма, ночного солнца, которое хоронит чернь, до света Нового Завета. Образы сборника: «глухие годы», «народ-судия», «двойные розы», чернь, оживляющаяся лишь на похоронах, прозрачный Петрополь, которому грозит зеленая звезда, бесплодная Венеция, кровосмесительницы Федра и Лия, время, остановленное и уходящее, – концентрируются вокруг главной темы Света и Тьмы, гнева Господня и прощения. Завершающее сборник стихотворение «Люблю под сводами седыя тишины…» (1922) имеет ключевое значение, в нем – код к открытию загадок «Tristia». «Зерно веры» сохранено, но большинство предпочло путь «широкопасмурного несчастья». Образ «одичалых порфир» указывает на потерю царской власти (что в действительности и произошло после отречения Николая II) и на ее самозваное присвоение. Вывод о христианстве как абсолютном Добре, пшенице без плевел – зерне веры – подкреплен заключительной строфой о духовной свободе, которая не знает страха.
Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета.
Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.
Но «риги Нового Завета» в данный исторический момент не являются целью народного духовного строительства: «Не к вам влечется дух в годины тяжких бед». «Tristia» заканчивается знаковым для Мандельштама образом «волчьего следа», который в 1930-е гг. преобразится в символический образ «века-волкодава». Лишь культура и человеческий гений противостоят насилию и варварству:
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Циклом стихотворений «Армения» (1931) Мандельштам открывает новую тему, вызревшую как итог раздумий над проблемами истории. Поэт ищет связь времен, основу единой жизненно-исторической стихии, в которой каждый человек и свидетель, и участник, и творец. Поэт лишь озвучивает «многоголосие» мира. В этом же ключе написана и проза «Путешествие в Армению» (1933).
Проза Мандельштама является необходимым компонентом его творчества в целом. «Шум времени» (1925), «Египетская марка» (1928) и «Четвертая проза» (1930) отмечены резкой индивидуальной стилистикой, совмещающей автобиографические и культурологические моменты. Отрывок «Пушкин и Скрябин» свидетельствует о глубоко оригинальной эллинско-христйанской концепции искусства, глубочайшем пиетете перед А. Пушкиным. Эссе «Разговор о Данте» (1933, опубликовано в 1966 г.) – редкий случай проникновенного понимания структуры итальянского языка, смысловых тончайших нюансов и философско-теологических, поэтических законов «Божественной комедии» Данте Алигьери в контексте мировой и русской культуры-истории.
Мандельштам-критик оказался проницательнее многих своих современников. Ахматову он назвал пророчицей Кассандрой, предсказав в стихах ее судьбу. В 1917 г. он написал:
Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Воспоминанья мучат нас.
И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя…
Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы —
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.
Поэзии Мандельштама свойственно соединение личного и общезначимого, историко-культурного и «мгновенного», пережитого и прочувствованного. Им сделаны переводы Ф. Петрарки, Ж. Расина, О. Барбье. Синтез духовного и интеллектуального, интуитивного и пророческого чувства времени, его исторической сути, включение в стихотворную ткань точных реалий делают поэзию Мандельштама и «документом» эпохи, все более обнаруживающим свою подлинность, и образцом высокой поэзии. В поэзии 1930-х гг., в частности в стихотворении «Старый Крым», раскрыта народная трагедия. Среди крестьянского безмолвия вся «Природа своего не узнает лица».
В 1934 г. Мандельштам был арестован за стихи о Сталине, в которых сказано не только о «кремлевском горце», но и о потере связи явлений, утрате основы основ – страны, смысла речи: «Мы живем, под собою не чуя страны, / Наши речи за десять шагов не слышны». Поэт был приговорен к ссылке, которую отбывал в Чердынске, затем в Воронеже. «Воронежские тетради» (частично опубликованы в 1966 г.), «Стихи о неизвестном солдате» (опубликованы в 1982 г.) создают образ «остановки истории», убиваемой жизни и культуры, говорят о геологическом и биологическом «провале», поэт создает космическую ораторию о «миллионах убитых задешево». Скорбь за миллионы убитых сочетается с мужеством и решимостью жить, не теряя при этом памяти, человеческого достоинства и христианской ответственности за происходящее: «Нам союзно лишь то, что избыточно, / Впереди не провал, а промер». Поэт заканчивает «Стихи о неизвестном солдате» общим многоголосием насильственно приговоренных к смерти, они помнят о своем рождении и праве на жизнь:
Напрягаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом…
– Я рожден в девяносто втором…
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья, с гурьбой и гуртом
Я шепчу окровавленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.
Поэт верит в бессмертие «Рожденных, гибельных и смерти не имущих» (стихотворение «Где связанный и пригвожденный стон?»). «Воронежские тетради» создавались без всякой надежды на публикацию. Поэт чувствует свою обреченность («И ясная тоска меня не отпускает») и воспевает вечные ценности – землю («Чернозем»), свежую зелень весны («Я к губам подношу эту зелень…»), музыку («За Паганини длиннопалым…»), живопись («Улыбнись, ягненок гневный, / С Рафаэлева холста…»), поэтическое творчество («Римских ночей полновесные слитки…», «Я около Кольцова…»), озорство и игру воображения («Чтоб приятель и ветра и капель…»), возможность дышать и шевелить губами, ворожить над вечной флейтой:
Флейты греческой тэта и йота —
Словно ей не хватало молвы —
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы.
И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы, ее не унять,
И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не размять.
И свои-то мне губы не любы —
И убийство на том же корню —
И невольно на убыль, на убыль
Равноденствие флейты клоню.
В Воронеже поэт познакомился с Н. Штемпель, посвятил ей стихотворение «К пустой земле невольно припадая…», заканчивающееся проникновенными строками о неиссякаемой силе любви и жизни:
Есть женщины сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра только очертанье…
Что было поступь – станет недоступно…
Цветы бессмертны, небо целокупно,
И все, что будет, – только обещанье.
В 1938 г. Мандельштам был вторично арестован, погиб при невыясненных до конца обстоятельствах в лагере, похоронен в общей яме.