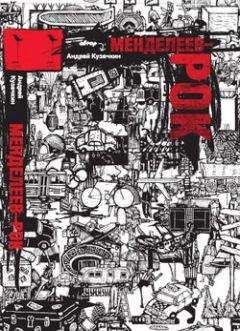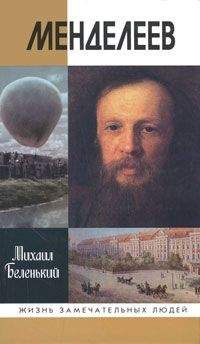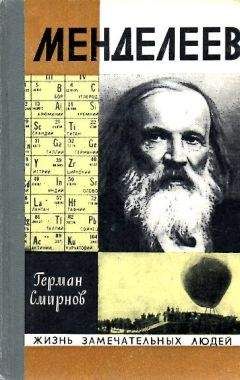Показание важное и от свидетеля достоверного. Достоевскому было шестьдесят лет, когда он писал эти строки. Он родился, можно сказать, вместе с идеей освобождения - когда она была опасной мечтой, он помнил дни гонения на нее и за нее нес каторгу, он пережил - с его-то чутким сердцем всю драму и всю поэму тогдашних надежд. И если он, ясновидящий, утверждает, что народ остался разочарованным реформой, то это истина, которой надо верить. Что народ ринулся было к правде Божьей, к полному гражданскому воскресению своему и не нашел его - этому нужно верить. Что же дальше? "Явилось, - пишет Достоевский, - бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового, правды новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином. И никогда, может быть, не был он более склонен к иным влияниям и веяниям и более беззащитен от них, как теперь. Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ее успех в народе: что свидетельствует она? Искание правды и беспокойство по ней. Именно беспокойство, народ теперь именно "обеспокоен" нравственно. Я убежден даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сих пор путей "в народ", то единственно по неумелости, глупости и неподготовленности пропагаторов, не умевших даже и подойти к народу. А то при самой малой умелости и они бы проникли, как проникла штунда" ("Дн. Пис.", 1881).
Далее идут блестящие страницы проникновенного анализа души народной, смущенной и мятущейся. Их следует перечитать всем, кто интересуется народной судьбой. "Ведь уж, кажется, дано управление, начальство, тут бы и успокоиться, - говорит Достоевский, - ан вышло почему-то наоборот. Вон высчитали, что у народа теперь, в этот миг, чуть ли не два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякий начальство, а тут еще двадцать штук специальных! Свобода-то движения ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой".
Нет сомнения, что Достоевский, как и Лев Толстой, живя долго вблизи к народу, оба омужичились - в благородном понятии этого слова. Они вобрали в себя всем нам родной, но многими стрекаемый дух народный, его нравственное миросознание, его идеалы. И я думаю, когда об этих идеалах говорит человек такого размера, как Достоевский, ему поверить можно. Достоевский говорит, что основной идеал народа - православие, хотя совсем не то, что мы понимаем под этим словом. Православие - как "всенародная и вселенская церковь", как осуществление царства Божия и правды его. В народе нашем горит "неустанная жажда, всегда в нем присущая, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово". В этом имени Христовом столько свободы и столько мудрости, сколько кто вместить может; интеллигенция могла бы найти в нем все свои святые чаяния, все мечты. Во имя Христово и призывал Достоевский образованное общество соединиться с народом. Он говорил, что если бы мы были истинно просвещены, то никакого и разъединения бы не было, потому что "народ наш широк и умен" и просвещения-то именно "жаждет". Но у народа есть критерий мудрости, образ Христа, и все, несогласное с ним, он не почитает светом. Нам надо быть искренними и уступить, ибо* в этом и наше спасение. Надо внедрить в душу народа, что правда есть в русской земле и что высоко стоит ее знамя. Но внедрить, конечно, нужно было истину, а не ложь.
Достоевский умирал в тяжелых предчувствиях. Народ - это "море-океан", по его выражению, казался неспокойным, и Достоевский открыто, по-мужицки ставил вопрос: "Как успокоить море-океан, чтобы не случилось в нем большого волнения?" Старому писателю казалось, что он нашел магическое слово, которое все примиряет: "Оказать доверие".
Вот формула, вот итог многострадальной жизни. Оказать доверие народу вот и все. "Да, - говорит Достоевский, - нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, что им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не нужно никаких великих подъемов и сборов, народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам. Ибо народ наш, и по местам сидя, скажет точь-в-точь все то же, что сказал бы и весь вкупе, ибо дух его един... Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужик, один только заправский мужик". Интеллигенцию Достоевский приглашает встать пока к сторонке и "поучиться уму-разуму".
Вот мысль. Она, конечно, никогда не была осуществлена. Только нынче летом, через 22 года после смерти Достоевского, в некоторых уездных комитетах были приглашены кое-кто из крестьян. Но главное условие Достоевского - чтобы "мы стали к сторонке" - соблюдено не было. Впрочем, и крестьян-то спросили не заправских, а начальственных - старшин и т.п. Достоевский предлагал спросить нацию, чего она хочет, предлагал внимательно выслушать - не "белые жилеты", а "серые зипуны". Достоевский не сомневался, что народ единодушно сказал бы нечто глубоко консервативное, национальное, православное, в духе Христа, и от этого всенародного слова можно бы начать строить жизнь.
Много удивительных мыслей в предсмертном "Дневнике" Достоевского, и его, как и весь небольшой журнал великого писателя, следовало бы читать почаще. Но, сказать по правде, его советы несколько коварны. Например, этот: "оказать доверие", "опросить серые зипуны". Что значит "оказать доверие", как не взять обязательство "исполнить желание" тех, кому доверяешь? Или "опросить серые зипуны"? Но возможно ли хоть какое-нибудь сомнение в том, что ответит народ, и ответит единодушно? Этот ответ заранее известен превосходно, и, стало быть, к чему повела бы эта комедия? Говорю "комедия" - не в укор священной памяти великого писателя. Прежде чем спрашивать народ, нужно решить, в состоянии ли мы ответы его уважить, применить к делу. Если нет, то, мне кажется, нечего тратить время и волновать народ несбыточными намеками.
Пора убедиться в том, что предстоящие реформы нуждаются не в материалах и не в сведениях - их достаточно сверх всякой меры. Сколько бы ни собирать цифр и данных, целые горы их не скажут ничего нового и ничего утешительного. Поглядите всего две-три минуты на египетскую пирамиду, и вы получите о ней более верное понятие, чем из целой библиотеки описаний. Поглядите непредубежденными глазами на крестьянина, на его хату, хлев, поле, на его ребятишек и жену, на его будничное житье-бытье - и этого с внешней стороны достаточно для самой великой реформы. С внутренней же стороны нужно немного - всего лишь доброе и решительное сердце. Старые дворяне, выраставшие в усадьбах, вблизи народа, совсем не знали статистики и все же быстро порешили крепостное право. Как та реформа, так и все истинно великие дела решаются не после работы, а до нее. До всевозможных комиссий, комитетов, совещаний нечто важное должно быть предварительно решено, и решено бесповоротно. Как до создания земли должна была наметиться ось вращения, как еще в зародыше организма намечается спинной хребет, так в каждом государственном предприятии должно быть ясное решение, и на нем уже должны строиться все его органы и ткани.
К сожалению, в ближайшем будущем не видно общего принципа. Сорок лет назад все казалось ясным. "Освобождение крестьян" - это звучало определенно, все знали, о чем идет речь. То же - судебная реформа, земство, воинская повинность. И народ, и общество отдавали себе ясный ответ в возможном, творческие силы находили для себя точки приложения. Но затем наступили туманные годы. Читая Достоевского, видишь, что и он уже неясно видел, в чем дело, и угадывал скорее пророчески. "Оказать доверие, опросить народ"... Но перед крестьянской реформой не приходило в голову расспрашивать его и собирать голоса. Все чувствовали две вещи: что народ страстно хочет свободы и что необходимо дать ее. Коротко и просто. Теперь кругом великого вопроса густая мгла. Все чувствуют, что крестьянский вопрос, по выражению министра внутренних дел, "превыше всего", что нужны "все творческие, духовные силы страны", - но и только. Нет великого замысла, не чувствуется даже сколько-нибудь ясно очерченного силуэта в общих сумерках. Я внимательно слежу за тем, что всем доступно, прислушиваюсь, спрашиваю у людей сведущих и безусловно ничего не могу рассмотреть впереди, как и Достоевский 22 года назад. Он верил в опрос серых зипунов, а я, признаюсь, и в это не верю. Конечно, в устах Достоевского эта мысль величавая, громадная, как сам народ, но на практике ведь вышло бы совсем не то. На практике система опросов не есть ли та же самая, нам всем известная, коренная российская "волокита" - благонамеренное уклонение от прямой задачи, канцелярский маневр, чтобы избежать ее?
Без опросов "по хижинам и по уездам" Достоевский твердо знал, что основная болезнь народная - "жажда правды, но неутоленная". Без опроса он глубоко веровал, до крестного распятия, если бы было нужно, что "дети людей должны родиться на земле, а не на мостовой", что "всходить нация должна на земле, на почве, где хлеб и деревья растут". Не из опроса, а прямо из совести своей, из сострадания, от Христа, всем говорящего, кто хочет слышать, Достоевский узнал и поведал в этом вопросе "магическое слово", но и оно потонуло в тумане холодного, одолевающего нас равнодушия.