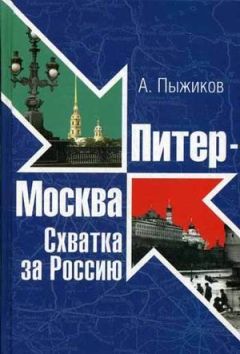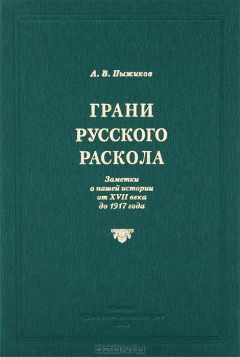«Все меры требуют всесторонних соображений и разработки, прежде чем они выльются в формы, которые могли бы служить предметом законодательного разрешения»[413].
Эти слова ясно показывают различие между доктринерством, пусть и облеченным в яркие либерально-прогрессивные одежды, и профессиональным подходом, основанным в первую очередь на целом комплексе конкретно-исторических факторов, а не на отвлеченной идее.
Наиболее мощные атаки на правящую бюрократию предпринимались Государственной думой в ходе ежегодного рассмотрения сметы Министерства внутренних дел. Заседания, посвященные этому вопросу, проходили крайне напряженно, эмоции буквально захлестывали нижнюю палату. Роль главного оппонента Министерства внутренних дел с энтузиазмом выполнял один из кадетских лидеров В.А. Маклаков. В своем выступлении в апреле 1908 года он сразу заявил, что было бы непростительным формализмом при обсуждении министерской сметы ограничиться бухгалтерской сверкой цифр и титулов и простым одобрением доклада бюджетной комиссии. По его глубокому убеждению, миссия Думы простирается гораздо дальше. Ведь роль Министерства внутренних дел в системе исполнительной власти намного значительнее, чем может сказать его название. Неслучайно обывательский язык додумской эпохи обозначал политические периоды именами министров внутренних дел[414]. Традиционную ведомственную политику Маклаков определил предельно четко: это не управление, а война – власть борется с обществом, используя приемы воюющей страны. И несмотря на то что государственный строй обновился, в этом – изменений не произошло, а какие-то новые тенденции, по мнению Маклакова, можно было обнаружить лишь в Таврическом дворце. Он выглядел неким экстерриториальным владением, потому что «все начала исчезают, забываются, как только мы выходим за его стены»[415]. Причем происходящее «за стенами» оратор проиллюстрировал на примере Москвы. Там в декабре 1905 года была введена и уже в течение трех лет действовала чрезвычайная охрана, хотя по закону она могла действовать только полгода. На Первопрестольную обрушивались репрессии, здесь закрывались газеты, арестовывались партийные агитаторы, перехватывалась корреспонденция и т.д. Этот чрезвычайный режим прикрывался борьбой с эксцессами, а в действительности, как утверждал Маклаков, его сделали нормой государственного управления[416].
Выводы Маклакова нашли горячий отклик во многих выступлениях думцев. Его соратник по партии О.Я. Пергамент призвал посмотреть не только на Москву, но и на всю Россию: страна «заштрихована» – она находится на чрезвычайном положении, а многочисленное чиновничество поддерживает этот внутренний режим удивительно согласованно[417]. Депутат от Варшавы Р.В. Дмовский вообще сравнил правительственную власть в Царстве Польском с оккупационным режимом, недавно завоевавшим территорию[418]. Была приведена интересная цифра: в Российской империи на 180 взрослых жителей приходился один полицейский чин, и это не считая агентов охранных отделений. Огромная репрессивная мощь Министерства внутренних дел была отражена в смете. Хотя она и охватывала разнообразные предметы, но самое значительное увеличение расходов, по утверждению депутата, было связано именно с полицейскими статьями[419]. Большую неприязнь у думцев вызывал институт генерал-губернаторства; его предлагалось вовсе упразднить – благо появились выборные депутаты, находившиеся ближе к населению и осведомленные о положении на местах гораздо лучше, чем высокопоставленные чиновники, назначаемые из Петербурга[420]. К тому же государева служба последних весьма щедро оплачивалась из казны: наместник на Кавказе обходился в 100 тыс. руб. в год, московский генерал-губернатор – в 76 тыс. руб., другие чуть меньше[421]. А ведь все эти высшие чины являлись потомственными дворянами, шталмейстерами, камер-юнкерами, то есть, говоря иначе, богатыми собственниками. Депутаты требовали также освободить Министерство внутренних дел от некоторых функций, поскольку оно втискивало в рамки полицейского усмотрения все сферы жизни. Например, Министерство торговли и промышленности во многом являлось просто вывеской: рабочий вопрос, вопросы судоходства и портов – все это решалось в Министерстве внутренних дел. Или Министерство народного просвещения, которое не могло самостоятельно назначить ни одного служащего – от учителя до профессора университета – без справки из полиции и предварительного согласования с органами внутренних дел. Подчеркивая их всемогущество, социал-демократ Т.О. Белоусов перефразировал известные стихи: Министерству внутренних дел – «ему, как любви, все ведомства покорны»[422].
Интересный анализ деятельности Министерства внутренних дел находим у октябриста С.И. Шидловского. Во главу угла он поставил мысль о большой разнице между администрацией и полицией. Если одна из них стремится заменить другую, то в общем развитии происходят сбои. Сейчас, объяснял Шидловский, огромное ведомство все больше приобретает полицейский характер и начинает смотреть на другие отрасти управления полицейскими глазами. Ныне Министерство внутренних дел можно с большим основанием назвать Министерством полиции, так как полицейские функции заслонили все другие (правда, такое положение сложилось уже давно). Положение усугублялось еще тем, что сама полиция и качество ее работы, как утверждал депутат, находились в ужасном состоянии[423]. В этой ситуации Шидловский предлагал дать ход широкой инициативе и лишь затем применять предписанные законом карательные меры:
«Народ, как живая река, не может быть перегорожен глухой плотиной. Можно регулировать берега, можно делать шлюзы, можно бороться с половодьем... но нельзя перегораживать наглухо»[424].
Однако столыпинский кабинет строго придерживался своей политической программы и был готов взаимодействовать с Думой только на своих условиях. Твердая позиция премьера разочаровала либеральных деятелей нижней палаты, которые отказывались видеть что-либо позитивное в работе властей. Отсюда все усиливавшийся скепсис относительно законодательной работы в целом. Тот же В.А. Маклаков заявил:
«Мы находимся в том положении, когда мы не можем заставить верить в себя, потому что в свое собственное дело мы сами перестали верить... нужен какой-то перелом»[425].
Кстати, в дальнейшем депутатские выпады против Министерства внутренних дел все чаще адресовались лично премьер-министру и министру внутренних дел П.А. Столыпину. Об этом с думской трибуны откровенно говорил товарищ министра П.Г. Курлов[426]. Депутат М.С. Аджемов, в частности, раскритиковал известный столыпинский принцип: сначала успокоение, потом реформы. По его мнению, под успокоением власти понимают главным образом завинчивание гаек, и страна все сильнее зажимается в тиски[427]. Ему вторил соратник по кадетской партии Ф.И. Родичев:
«Добились успокоения, того успокоения, которое царствует на кладбище, сделали из страны пустыню и назвали это покоем»[428].
С Родичевым был связан любопытный эпизод. Депутат Н.Д. Сазонов (брат министра иностранных дел С.Д. Сазонова, женатого на родной сестре супруги Столыпина) на одном из пленарных заседаний Государственной думы произносил очередную речь в защиту премьера. Предрекая тому место в истории, он прибег к художественному сравнению: птичий двор необходимо оберегать от хищников, поэтому хозяин натянул над ним защитную сетку, и пернатые вздохнули свободнее, почувствовав себя в безопасности. Хотя нашлись петухи, недовольные принятыми мерами[429]. Таков, по убеждению Сазонова, был смысл действий российского премьера и реакция на них нижней палаты. Этот образ весьма сильно задел оппозицию. Ф.И. Родичев возмутился сравнением России с курятником, а по поводу хозяина, натянувшего сетку, едко заметил: он натянул сетку вовсе не для того, чтобы кур и петухов не поклевали коршуны; птицы знают, «что настанет для них час, когда их понесут на кухню и изжарят»[430]. Вот, по словам Родичева, действительный смысл этого красочного сравнения, наиболее полно выражающий отношение правительства к народу.
Противостояние Государственной думы и петербургской бюрократии, разумеется, касалось не только общих проблем государственного управления. Многочисленные и не менее острые столкновения проходили при обсуждении конкретных вопросов экономической жизни. В этой сфере правительство неизменно выступало на стороне руководимой выходцами из высшего чиновничества питерской банковской группы и иностранного капитала, с конца XIX века широко представленного в экономике. Жесткую конкурентную борьбу с этими предпринимательскими слоями вела купеческая элита, чьи интересы взяла под свой патронаж нижняя палата российского парламента. Общественные борцы за конституцию и парламентаризм, собственно, и задумывали думу как инструмент, с помощью которого можно ограничить влияние бюрократии на бизнес. Самое начало работы III Государственной думы наглядно это продемонстрировало. Ряд депутатов, едва усевшись в свои кресла, попытались повлиять на правительственное решение о крупной концессии на строительство Севе-ро-Донецкой железной дороги. Концессии добивались общество, учрежденное синдикатом «Продуголь», Петербургским международным банком и французским Северным банком. Глава «Продугля» Н.С. Авдаков предлагал продолжить железнодорожное обустройство Донбасса, чтобы облегчить доставку минерального топлива в центр страны, в частности в московский промышленный район[431]. Осуществление этого проекта ставило крест на планах развития подмосковного угольного бассейна, которые строила московская буржуазия. Экспансия южных добывающих предприятий делала невозможным обретение Москвой собственной сырьевой базы. Депутаты начали оспаривать планы «Продугля». Наиболее ярым противником проекта южных предпринимателей и банков оказался член Государственной думы Н.Л. Марков, ближайший партнер разоренного купеческого магната С.И. Мамонтова. В конце 1907 года он издал специальную брошюру, где доказывал, что постройка дороги отвечает личным интересам ряда иностранных и питерских дельцов, но никаких выгод российскому государству не несет; огромные правительственные льготы позволяют узкому кругу капиталистов рассчитывать на баснословные прибыли[432]. И все-таки лоббистские возможности этих капиталистов сделали свое дело: правительство оставило без внимания аргументы думцев, предоставив концессию обществу. Его учредители поспешили заявить, что это решение знаменует собой поворот в российской экономической политике: впервые после двадцатипятилетнего перерыва дан «зеленый свет» частному железнодорожному строительству, и в скором времени его ожидает расцвет[433].