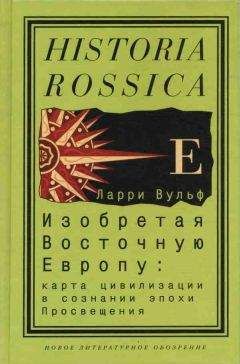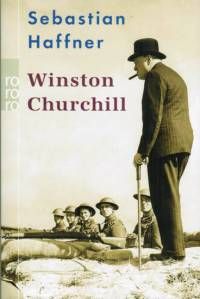В своих мемуарах Тотт полностью приводит свой разговор с Али-агой об обращении с молдаванами. Философический диалог был, конечно, одной из излюбленных литературных форм эпохи Просвещения; ее блестяще использовали такие гиганты, как Вольтер и Дидро. Казанова описывал свое знакомство с основами рабовладения в России и Польше в неформальных, легких диалогах; Тотг, развивая ту же тему, следует правилам жанра и выводит мораль. Диалог его открывается возражениями просвещенного барона против излишней жестокости.
Барон: Ваша расторопность при переправе через Прут и прекрасная пища, которой вы нас довольствуете, не оставляли бы желать ничего лучшего, мой дорогой Али-ага, если бы вы меньше били этих несчастных молдаван или били их только тогда, когда они вас ослушаются.
Али-ага: Какая им разница, когда их бьют, до или после? Не лучше ли покончить с этим сразу, не теряя времени?
Барон: Не теряя времени! Наилучшим ли образом вы его используете, избивая без причины этих несчастных, чья добрая воля, сила и покорность творят чудеса?
Али-ага: Месье, как это возможно? Говоря по-турецки, пожив в Константинополе, зная греков, вы не знаете, что молдаване не станут ничего делать, пока их не побьют?[169]
Тотг пожаловался, что «куски, которые вы достаете побоями, застревают у меня в глотке», и просил разрешения впредь платить за провизию.
Его чувства в этом случае очень похожи на ощущения леди Мэри, которая, несмотря на нелестное мнение барона о ее сочинении, за полвека до того оказалась в сходной ситуации. Проезжая через Сербию, она с ужасом заметила, что составлявшие ее эскорт янычары под командой аги жестоко эксплуатировали местное население от ее имени. О своем возмущении она написала принцессе Уэльской:
Моему состраданию открылся здесь новый предмет. Бедняков, которые предоставили внаем 20 повозок, чтобы перевезти сюда наш багаж из Белграда, отправили назад без всякой платы, причем некоторые их лошади искалечены, а другие убиты, но хозяевам не заплатили. Несчастные собрались вокруг нашего дома, плача, вырывая волосы и бороды самым жалостливым образом, но не получили от бессердечных солдат ничего, кроме тумаков. Не могу описать Вашему Королевскому Высочеству, насколько я была растрогана этой сценой. Я бы заплатила им из собственного кармана, но деньги достались бы are, так как он обобрал бы крестьян без всякого сожаления[170].
Тотт, которого мучили цивилизованная совесть и застревавшие в горле куски, тоже хотел заплатить. Он сказал Али-аге: «Успокойтесь, я заплачу достаточно, чтобы получить все самое лучшее. Этот способ более надежен, чем ваш». Али-ага возразил, что ничего не получится: «Говорю вам, вы не добудете даже хлеба! Я знаю молдаван, они любят побои».
Тотт настаивал, что откажется от обещанного султаном возмещения своих расходов, а крестьяне, в свою очередь, «откажутся от побоев, если, конечно, им заплатят». Али-ага согласился на эксперимент.
Али-ага: Вы этого хотите, и я согласен. Мне кажется, вам нужен подобный опыт, чтобы изучить молдаван как следует. Но когда вы их узнаете, помните: было бы несправедливо, если бы мне пришлось отправиться в постель без ужина. Если ваши деньги или ваше красноречие не смогут произвести должного воздействия, вы, конечно, сами захотите, чтобы я прибег к моему методу.
Барон: Быть по тому, раз мы пришли к согласию. Нужно только чтобы я встретил старосту, когда мы прибудем в деревню на ночлег, и мог по-дружески попросить у него продовольствия[171].
Путешественники эпохи Просвещения полагали, что они «знают» Восточную Европу, на чем и основано их превосходство: вся цель поставленного над местными жителями «опыта» состояла в «изучении молдаван». Точно так же Казанова считал, что надо съездить в Москву, чтобы «узнать русских». Этими знаниями путешественники делились с читателями Западной Европы — теми, конечно, «кто ищет познаний», а не теми, «кто любит фантазировать».
Наконец Тотт лицом к лицу встретился с деревенским старостой и обратился к нему по-турецки. Барон, естественно, гордился своими лингвистическими познаниями и полагал, что его предшественники, вроде леди Мэри, писали такую чушь именно потому, что не знали местных языков. Он применил на практике свое красноречие: «Вот, возьми эти деньги, мой друг, и купи нам провизии. Мне всегда нравились молдаване, и я не потерплю, чтобы с ними плохо обращались, так что, надеюсь, ты достанешь нам ягненка и немного хлеба. Остальные деньги оставь себе и выпей за мое здоровье». Замечательная речь, но, увы, старый молдаванин знаками показал, что не понимает по-турецки. Тогда Тотт произнес ту же речь по-гречески. Греческого молдаванин тоже не знал, и барон, при всех своих познаниях, так и не получил ужина. Более того, молдаванин стал показывать знаками, что «в деревне ничего нет, что люди умирают от голода». Тотт обернулся к Али-аге, упрекая его за то, что тот привел их в такую бедную деревню, где не было продовольствия, но Али-ага оставался невозмутим: «Чтобы доказать вам, что я лучше знаю молдаван, дайте мне с ним поговорить» — и пообещал: «Если через четверть часа у нас не будет самого превосходного ужина, можете вернуть мне все те удары, которые я ему отвешу»[172].
Спрятав под одеждой плеть, Али-ага «небрежно» подошел к старому молдаванину и дружелюбно похлопал его по плечу: «Здравствуй, дружище, как твои дела? Ты что, не узнаешь Али-агу, своего приятеля? Ну же, говори?» Молдаванин по-прежнему не понимал. Али-ага продолжал: «Что, дружище, ты и впрямь не знаешь турецкого?» Тут он одним ударом свалил молдаванина на землю и начал бить его ногами: «Получи, мошенник! Это научит тебя турецкому». И в самом деле, молдаванин заговорил по-турецки: «За что вы меня бьете? Разве вы не знаете, что мы бедные люди: наш господарь только что воздух у нас не отбирает?» Пропустив мимо ушей эти причитания, Али-ага обратился к Тотту: «Eh bien, месье, вы видите, что я хороший учитель! Он уже превосходно говорит по-турецки. По крайней мере, мы можем поболтать, это уже кое-что». Вслед за этим Али-ага достал свою плеть и начал избивать старосту: «А, неверный! А, мошенник! У вас ничего нет? Ну, раз я научил тебя говорить по-турецки, значит, ты у меня скоро станешь богатым». Припасы появились через четверть часа. Тотт признал свое поражение: «Как не согласиться после этого, что мой способ ничего не стоил по сравнению со способом Али? Как не излечиться от моего упрямого человеколюбия?»[173]
Тотт поставил на то, что обитатели Восточной Европы — тоже люди, и проиграл. Просвещенческий оптимизм и вера в человеческую природу не выдержали испытания Восточной Европой, и Тотт отправил на покой свое «упрямое человеколюбие». Сходным образом Казанова и Сегюр отказались в России от своих сомнений, шла ли речь о купле-продаже отдельно взятого раба или о жестоком угнетении крестьянства как класса. Как и Казанова, Тотт обнаружил, что некоторые люди не только заслуживают побоев, но и хотят, чтобы их били. В Восточной Европе путешественник из Европы Западной должен был умерить свой гуманный пыл, примеряясь к тому «многообразию нравов, на котором основаны сегодняшние различия между нациями». Это серьезное, казалось бы, открытие представлено в форме диалога между бароном и Али-агой (превращенного с добавлением нового персонажа, Молдаванина, в целую пьеску), близкого к жанру развлекательной литературы. В нем, без сомнения, есть и комедийные черты.
Али-ага, с его шутками об «обучении турецкому» и высокомерной уверенностью, что он знает молдаван лучше, чем Тотт, был, конечно, комическим злодеем. Он отчасти напоминает других восточных персонажей XVIII века, особенно турка Осмина из моцартовского «Похищения из сераля». Начиная с леди Мэри Уортли Монтэгю и кончая леди Элизабет Крэйвен, путешественникам приходилось полагаться на своих микмандаров, или тчоадаров, но эти проводники не пользовались у них популярностью. По дороге из Константинополя в Вену в 1786 году леди Крэйвен очень сердилась на «отвратительного тчоадара», обвиняя его во всех задержках. Особенно разъярилась она, когда, чтобы сварить себе турецкий кофе, он забрал горячую воду, предназначенную для ее утреннего шоколада[174]. Тотт, с другой стороны, оправдал своего турка, выигравшего пари, — Али-ага действительно «знал» молдаван. Что же до самого молдаванина, Тотт признавал крайнюю бедность его односельчан, которых поистине грабил их господарь (кстати, тоже назначенный турецким султаном). Тем не менее молдаванин предстал перед читателем как комическая фигура, притворяясь, что не знает турецкого, и прикидываясь простаком, объясняющимся с помощью жестов. Тотт и себя изобразил в виде комического персонажа, наивно верящего в человеческую природу и получившего в Молдавии хороший урок. Но и отказываясь удобства ради от своего «упрямого человеколюбия», он утверждал превосходство западноевропейской цивилизованности, — ведь его оппоненту, Али-аге, отказываться было не от чего. Три действующих лица этой драмы представляли соответственно Западную Европу, Восточную Европу и Азию. Как оказалось, Западная Европа оправдывала, даже поощряла те пинки и побои, которыми Азия награждала Европу Восточную. Полученный при этом урок бесчеловечности был настолько жесток, что его пришлось выразить в форме комедии.