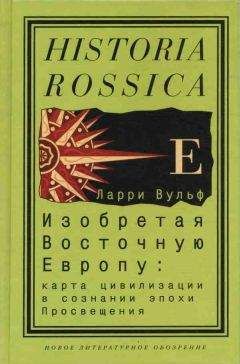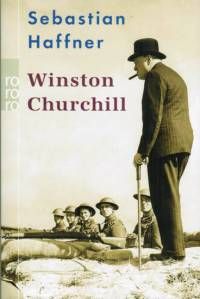Путешествия сами по себе, поиски продовольствия, лошадей и ночлега то и дело превращали путешественника по Восточной Европе в случайного соучастника и покровителя бесчеловечных угнетателей и рабовладельцев. Это случалось и в Оттоманской, и в Российской империях. В 1778 году Кокс и его спутники собрались на один день съездить из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, но «в чужих странах постоянно возникают препятствия, неожиданные для тех, кто недостаточно знаком с местными нравами», и поездка заняла три дня вместо одного. У них была подорожная, позволявшая им брать почтовых лошадей, но скоро они обнаружили, что «иностранца ожидают бесконечные задержки, если его не сопровождает солдат, подгоняющий почтовых служителей»[175]. Хотя они и размахивали официальной бумагой, никто не спешил предоставить им лошадей. Они собирались выехать в пять утра, но отправились только через девять часов и проехали лишь четыре версты из сорока, после чего ямщики отказались везти их дальше.
Напрасно мы показывали подорожную. Они заявили, что обязаны отвезти нас только от одной деревни до другой, и без особых церемоний вернулись в Москву. Мы потратили еще два часа, и наш переводчик-богемец долго объяснялся на ломаном русском, пока мы не убедили жителей снабдить нас лошадьми, после чего нас опять высадили в другой деревне, в трех милях от предыдущей. Мы продолжали препираться подобным образом до самой полночи, передвигаясь между деревнями, которыми густо усыпана эта часть страны[176].
Перед нами комическая ситуация, в основе которой лежит попытка достать лошадей в России. Она напоминает попытки Тотта достать продовольствие в Молдавии за десять лет до того. В обеих комедиях появляется и элемент фарса, когда местные жители намеренно отказываются понимать путешественников. В случае с Коксом безнадежные попытки переводчика-богемца объясниться с крестьянами основаны на предполагаемом сходстве чешского и русского языков. Как и положено настоящей комедии, в конце концов наступила счастливая развязка, точно такая же, как и в молдавской комедии Тотта.
На второй день, когда они уже проехали половину пути, их встретил сержант, посланный им на выручку русским князем, после чего все проблемы с лошадьми легко разрешились.
Наш приятель сержант оказался очень хорошим агентом. Стоило крестьянам начать свои обычные возражения и препирательства, он немедленно разгонял их дубиной, более красноречивой, чем самые высокопарные увещевания. Мужланы, несомненно, привыкли к этому риторическому приему и сносили его терпеливо и вполне добродушно; взобравшись на козлы, они как ни в чем не бывало начинали насвистывать и распевать свои простонародные песни[177].
В данном случае сержант исполнял ту же роль, что и микмандар в Оттоманской империи. Кокс признал, что «опыт предыдущего дня показал нам ценность нашего военного помощника»[178]. Он получил такой же урок, как и Тотт, и созерцал избиение ямщиков с таким же равнодушием, иронично рассуждая о «красноречии» шпицрутена и отмечая «добродушие», с которым крестьяне только что не радовались побоям, даже пели и насвистывали.
Покинув наконец Москву и отправляясь в Санкт-Петербург, в более продолжительную поездку, Кокс не забыл полученного им урока об особенностях русской транспортной системы и напоминал своим читателям:
И впрямь, как я уже говорил, иностранцу, желающему путешествовать без задержек, необходимо не только обзавестись паспортом, но и раздобыть русского солдата, который, вместо того чтобы выслушивать возражения крестьян или дожидаться посредничества неторопливого почтмейстера, разом решает все вопросы своей могущественной дубиной[179].
Этот важный урок не просто облегчал путешествие, но, по словам самого Кокса, позволял просветить «тех, кто недостаточно знаком с местными нравами». Кокс делился с читателями своими благоприобретенными познаниями о русских, подобно тому как Тотт делился сведениями о молдаванах, особенно об объединявшей эти народы привычке к телесным наказаниям. Во второй раз упоминая в своем сочинении избиение дубиной, Кокс вновь описывает «склонность местных жителей к пению»: «даже крестьяне, выполнявшие обязанности кучера или почтальона, стоило им усесться на лошадь, немедленно заводили песню»[180]. Могло показаться, что их избивали не чтобы получить лошадей, а чтобы послушать, как они поют.
Кокс прекрасно понимал, почему они не могли получить лошадей без помощи солдата: «Плата за наем этих лошадей настолько незначительна, что хозяева могут с большей выгодой использовать их на других работах»[181]. Тотт, с другой стороны, приложил большие литературные усилия, показывая, что готов заплатить, дабы употребление плети не приняли за признак его скупости. Другие путешественники вполне откровенно описывали финансовые преимущества, которые дает соучастие в социоэкономической системе, где собственность крестьян была ничем не защищена. Путешествуя в 1794 году по Венгрии, Хоффманнсег был рад сэкономить: «Если путешественник располагает выданным властями ордером, каждая деревня была обязана предоставить ему лошадей. Таким образом, если вы знакомы с влиятельным чиновником, у которого можно раздобыть такой ордер, вы можете путешествовать очень дешево»[182].
Когда ради удобства путешественников требовалось прибегнуть к насилию, с этим было легче примириться, если били другие, например турецкий микмандар или русский сержант. Путешественник мог убедить себя, что побои здесь были естественны для социальных отношений и просто отражают «местные нравы». Проезжая в 1791 году через Венгрию к Валахии, Салаберри собирался заночевать в селении под названием Лугош, близ Тимишоары:
В Лугоше мы послали нашу подорожную к комиссару этого графства, который переслал ее окружному судье. Тот был на балу и вернулся только два часа спустя. Комиссар распорядился дать ему несколько ударов палкой, судья приказал побить пандура, пандур — крестьян, а те уже сами побили своих лошадей. Voilà! Если посчитать, то по случаю нашего прибытия (à notre occasion) в Лугоше было роздано не менее полусотни ударов[183].
Путешественники чувствовали себя почти непричастными к побоям, для которых они послужили только предлогом, и развлекались комической стороной этой сцены. Количество ударов, подсчитанное Салаберри, — voilà — воспринималось почти как пародийное свидетельство важности самих путешественников. Несколько позднее Салаберри наблюдал, как валашский боярин бьет своего слугу, который должен был приготовить путешественникам комнату, разжечь огонь и принести солому для постели. Без тени возмущения французский маркиз описывал, что было дальше: «Раб не стал ни печальнее, ни расторопнее, поскольку здесь — это единственный способ что-то потребовать»[184]. Валахи были похожи на молдаван Тотта, и как только Салаберри достаточно изучил Восточную Европу, чтобы отождествить слугу с рабом, побои уже не требовали никакого объяснения.
Телесные наказания, к которым прибегали сами путешественники (например, побивший Заиру Казанова), официальные проводники (например, микмандар Тотта и русский сержант Кокса) и местные господа (например, валашский боярин), воспринимались как наглядное проявление царившего в Восточной Европе рабства. Одновременно Кокс очень интересовался состоянием тюрем и наказаниями в целом и старался замечать, как влияют телесные наказания на поддержание закона и порядка. Предшественница Екатерины, императрица Елизавета, отменила в России смертную казнь, а сама Екатерина запретила пытки. Вольтер во Франции и Уильям Блэкстоун в Англии приветствовали этот шаг, полагая, что он свидетельствует о благотворном воздействии Просвещения на уголовное законодательство. Кокс, однако, не спешил признавать достижения России в этой области. Как раз тогда стали раздаваться первые призывы отменить сибирскую каторгу и ссылку, которым суждена была долгая жизнь, и Кокс одним из первых обратил на это внимание: «Даже самый благосклонный человек едва ли станет превозносить эту хваленую отмену смертной казни, вспомнив о том, что, хотя в соответствии с буквой уголовных законов злоумышленников в России и не при говаривают к смерти, многие из них обречены на гибель, подвергаясь наказаниям почти наверное, а то и откровенно, смертельным, подающим надежду на жизнь, но только продлевающим смерть»[185]. Подобные замечания почти в неизменном виде повторяются в XIX и XX веках.
Менее приемлемым с точки зрения современных нравов был рассказ о публичной порке в Санкт-Петербурге. Кокс описал ее во всех деталях, и «knoot», или «knout», стал с той поры символом русского варварства. История началась как обычный день из жизни туриста: