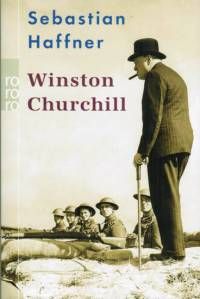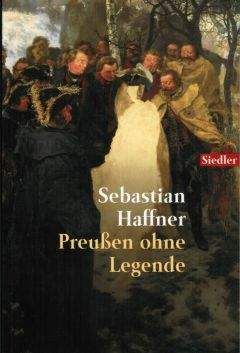А затем всё же ещё кое–что произошло. Ещё раз, последний раз, старый великан выпрямился во весь свой рост. На короткое мгновение ещё раз, как в 1940 году, весь мир смотрел на Черчилля. Это был момент надежды. Эта надежда больше не воплотилась.
Началось с того, что многолетний министр иностранных дел и кронпринц Антони Иден в начале 1953 года опасно для жизни заболел и на месяцы выпал из работы. Это, казалось, чудесным образом воскресило Черчилля. Он перенял до возвращения Идена также министерство иностранных дел, и дополнительная работа заметно его омолодила: уже годы его не видели в такой форме. Неожиданно он снова был в своей стихии — почти что, как если бы ему лишь теперь снова пришло в голову, для чего он всё время собственно оставался в упряжке, что он ещё должен был предпринять.
Потому что ведь за всей партийной политикой он никогда не терял мучительного ощущения, что его собственное творение в 1945 году было прервано как фрагмент. Победа была полной, но более ничего: ни постоянной связи с Америкой, которая должна была предотвратить и компенсировать ослабление и экономическое обескровливание Англии, ни восстановления и примирения Европы. Война против Германии почти без паузы перешла в холодную войну против России — не без собственного вклада в это Черчилля. В 1945 году он пожалуй надеялся, что сможет использовать новый конфликт в качестве двигателя, тем самым продвинуть дальше англо–американское объединение и завершить его созданием европейского единства — такова была суть его знаменитых речей в Фултоне и в Цюрихе в 1946 году. Но речи отстранённого от власти инструмент слабый и тупой — у кого было больше опыта в этом, как не у Черчилля! В Америке и в Европе в них услышали лишь то, что хотели услышать, но не то, из чего исходил Черчилль. Холодная война стала автономной, с тех пор, как снова стали сражаться в Корее, она угрожала перейти в новую мировую войну, и она мало бы способствовала объединению англоговорящих народов или объединению Европы.
А между тем атомная бомба появилась и у России, уже повсеместно приступили к разработке водородной бомбы. Воин Черчилль, раньше чем другие, увидел что война теперь стала невозможной, что пришло время заниматься миром. Такие мысли занимали его в эти месяцы; ещё раз он был в состоянии их обдумать; ещё раз в его голове сформировалось, пока эскизно, нечто вроде нового проекта мира.
И затем умер Сталин. Это был последний побудительный толчок для Черчилля. 11 мая 1953 года он произнес самую неожиданную речь, какую он когда–либо произносил. Без предупреждения, без подготовки он резко повернул курс, которым Англия вместе с Западом шла уже семь лет. Практически он провозгласил конец холодной войны. Он предложил провести с наследниками Сталина конференцию на высшем уровне, и он вбросил в дебаты слово «Локарно [16]" — мысли о всеевропейской системе безопасности вместо противостоящих друг другу блоков.
Те тональности, которые обозначил Черчилль 11 мая 1953 года, с тех пор не замолкали в мировой политике, хотя мир, который он тогда обрисовал, до сего дня не воплощён в реальность. Что тогда сказал Черчилль, сегодня, когда это перечитываешь, не звучит более непривычным. Однако он ведь был первым, кто это сказал. Тогда, в разгар холодной войны, он потряс этим мир. Россия насторожила уши. Германия пришла в ужас, Америка была поражена и озабочена. Англия вдруг почувствовала новую надежду — и новую гордость. Одним ударом её великий старый человек снова стал центром мировых событий. Мирный план Черчилля был последней большой мировой инициативой, которая исходила от Англии.
Можно ли это было назвать планом? Или это были лишь намётки, фрагменты мыслей, огромные осколки, которые не складывались в одно целое? Тяжело сказать. Как в случае определённых эскизов и набросков позднего Рембрандта и позднего Бетховена от этого последнего большого начинания позднего Черчилля возникает ощущение: «Если бы он это ещё воплотил в реальность, то это было бы величайшим из всего, что он когда–либо сделал». И одновременно — сомнение, был ли он в состоянии воплотить это в жизнь. Черчилль одновременно хотел многого, что собственно казалось несоединимым: англо–американского и европейского объединения — и сверх того, перекрывающего всё великого атомного мира, опирающегося на восстановленную коалицию победителей Второй мировой войны. Возможно, всё это вместе было недостижимым; возможно отдельные части противоречили друг другу и не составляли единого целого. С другой стороны, произведения государственного искусства, в отличие от других произведений искусства, никогда гармонично не завершаются и не готовы лежать спокойно в застывшем завершённом виде. Политика — это движение; приводить вещи в движение и направлять движение туда, куда желают — это всё. И это должны были позволить сделать старому Черчиллю — чтобы он ещё раз могущественно привёл дела в движение.
Управлять движением ему было отказано. Он не достиг более вершины — более, чем в одном смысле. Прежде чем он достиг лишь первого этапа — подготовленной конференции на высшем уровне стран Запада, что он сумел сделать в первом наступательном порыве и на которой он хотел привлечь на свою сторону Америку для своей большой новой игры, ему помешал удар.
27 июня 1953 года в английской газете прочли особое сообщение: премьер–министр переутомлён и должен быть на месяц «освобождён от своих обязанностей». Переутомлён? Освободить? Это было так непохоже на Черчилля. В действительности он беспомощно лежал в своем доме в Чартуэлле, парализованный на одну сторону и лишённый речи. Его коллеги ожидали его скорого возвращения; его врачи считались с возможностью его скорой смерти.
Они не приняли в расчет его стойкости. Он не сдался. Он никогда не сдавался. Едва он смог снова двигать губами, как он снова начал заниматься конференцией на высшем уровне — теперь она должна была произойти в сентябре. «У меня есть чувство, что я могу сделать кое–что, чего не сможет никто другой», — доверительно говорил он своему врачу — изъясняясь невнятно, едва понятно. «Я верю, что мог бы дать миру новое направление. Возможно ещё не мир во всём мире, однако всемирную разрядку. Америка этого не может. Америка очень сильная, однако она очень бестолковая».
Сначала он не мог вовсе ничего делать, кроме как пытаться восстановить контроль над своим телом. Старый политик мирового калибра был теперь снова подобен маленькому ребёнку, который учится ходить — и гордый, как ребёнок своими успехами в этой учёбе. «Я теперь не могу ещё снова управлять, это ясно», — сказал он 19 июля (всё ещё говоря невнятно), — «но физически я делаю хороший прогресс». Его врач, который это сообщает, продолжает в своём описании: «Он выбросил свои ноги из кровати и прошёл на них до ванной комнаты, чтобы продемонстрировать, насколько лучше он уже снова мог ходить. У ванны установили поручень. Он схватился за него, сумел встать с его помощью в пустой ванне и затем стал медленно опускаться, пока наконец он триумфально не уселся, одетый лишь в шелковую нижнюю рубашку: «Неделю назад я ещё этого не мог делать».
А затем, почти на том же дыхании: «Естественно, что русские возможно отвергнут конференцию. Я полагаю, что им бы больше понравилось, если бы я к ним пришёл один, чтобы рассердить американцев — это не значит, что я себя когда–нибудь дал бы отделить от американцев».
Пару дней спустя: «Иногда у меня чувство, что в моём мозгу есть какая–то часть, которая больше не действует правильно и возможно вдруг лопается, когда я её чересчур использую. Я знаю, что это некорректно с медицинской точки зрения. Однако я не хочу ещё себя сбрасывать со счёта, я ещё хочу своё дело сделать — с русскими я ещё хочу дела привести в порядок. Знаете ли, я играю по–крупному. Если я добьюсь успеха и если мы сможем разоружиться», — он стал шепелявить от волнения, — «то можно будет рабочему человеку дать кое–что, чего у него никогда не было — свободное время. Четырёхдневная рабочая неделя, а затем трёхдневный отдых!»
Между тем всё снова и снова мучительные мысли о том, что пока он тут лежит беспомощный, всё делается неверно. Иногда у него появлялись слёзы. «Я меня всегда глаза были на мокром месте, однако теперь я стал по–настоящему плаксой. Нельзя ли что–то с этим сделать?» На конференции министров иностранных дел, которая была проведена вместо конференции на высшем уровне, всё пошло вкривь и вкось. Даллес провёл свою линию. Черчилль был беспомощно разгневан этим и остроумен в своём гневе. Даллес же как раз был достаточно умён, чтобы в довольно большой степени суметь показаться глупым.
В это время Черчилль ещё находился в инвалидном кресле, однако уже через четыре недели он снова стал ходить с тростью, в сентябре он в первый раз снова показался на публике, а в октябре, на партийном съезде консерваторов, он впервые снова держал речь. Это был немыслимый триумф его силы воли, однако перед этой речью у него был страх, какого у него никогда в жизни не было. Он восстановил господство над своим телом, однако двигался всё ещё с усилием, он обещал себе это преодолеть, и он не знал, сможет ли он снова простоять час на своих ногах. Но он знал, что у него не должны заметить ничего: слишком много разговоров вокруг было об этом, слишком много коллег ожидали его возвращения. Какой–либо знак, что он не полностью восстановился, не полностью был снова прежним Стариком, какая–то запинка или он выбьется из линии поведения, не говоря уже о провале — это был бы конец. Черчилль пошёл на эту речь как на сражение. Он сражение выиграл.