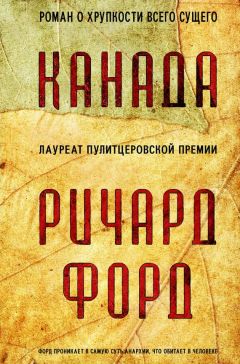Он не то что пожал плечами, а скорее нервно подернулся:
– Заврались, а теперь уже не могут отступить. Боятся все скомпрометировать. А во-вторых, они слышали, что мы стольких не можем досчитаться. Вы, наверно, знаете?
Я поддакнул.
– Ну вот. Они делают отчаянные усилия, раскапывают всю возвышенность, чтобы найти больше, но находят только отдельные, более давние скелеты русских, не военных.
– А где же остальные? – я спросил машинально, как будто мог рассчитывать на ответ, как будто этот человек в темных очках мог знать об этом больше меня.
– Ба!.. – он развел руками. Одна рука повисла над могилой, другая указывала на барак, возле которого грелись у костра рабочие. Вероятно санитар думал так же, как я. Своим жестом он будто охватывал пространство от Северного Ледовитого океана до азиатских пустынь. Пространство огромное…
Где остальные? Теперь мы уже знаем, что советское правительство любой ценой хотело избежать этого вопроса и потому судорожно ухватилось за ложную цифру, поданную немецкой пропагандой. Но тогда, в мае 1943 года, это была еще сенсация.
– А вы спросите насчет этого профессора Бутца, – добавил неожиданно санитар. – Вот так прямо, без обиняков. Он, кажется, приличный человек. Интересно, что он скажет.
Через полчаса, ссылаясь на проф. Сенгалевича, я представился профессору Бутцу и спросил:
– Как вы считаете, господин профессор, сколько здесь трупов?
– О! Это еще точно не вычислено… – ответил он честно – так, как мог ответить немецкий офицер, мнение которого явно расходилось с официальными утверждениями немецкой пропаганды.
* * *
Костры в Катыни, у которых греются рабочие, имеют двойное назначение. Они дают тепло и дым, который хоть ненадолго разгоняет трупный смрад, как в других местах отгоняет комаров. У людей, столпившихся вокруг костров, глаза слезятся от дыма. Там как раз стоит уже известный нам старичок Парфен Киселев, который первым указал место преступления. Другие окрестные жители, которые тоже давали показания по катынскому делу, а теперь тут работают, сидят на корточках и недружелюбным взором окидывают «гостей».
Я понимаю их. Им уже давным-давно надоело бесконечно повторять через переводчика все одно и то же. Их, наверно, тошнит не только от вечного смрада, но и от постоянного повторения одних и тех же рассказов. Разве они виноваты, что видели?! Ну, действительно видели, как ехали воронки, как возвращались за новой партией, как все те, кого грузили на станции в Гнездове, исчезали именно тут, в Козьих Горах. Их лица сильно оживляются, когда я обращаюсь к ним без переводчика, на чистейшем русском языке.
– А вы что? Русский будете?
– Нет, я поляк.
– Ааа…
– А это, по-вашему, лучше или хуже?
Они улыбаются.
Один из них начинает рассказывать. Вещи уже известные. Вдруг возникает спор о количестве машин, которые возили военнопленных из Гнездова в Катынь. – «Четыре», – говорит рассказчик.
– Не бреши! – возражает ковыряющий палкой в огне. – В смоленском НКВД всего и было четыре «воронка». А ездило только три. Четвертый оставался в городе. А спереди ездила легковая машина с энкаведешниками. А сзади грузовик с вещами. Вот как оно было.
– Ты, может, видел три, а я видел четыре.
– Со страху, видно, чтобы и тебя не завезли на Косогоры.
Спор кажется мне несущественным.
– А давно тут было место казней – в Косогорах, в Катыни?
– 0-го-го! – отвечают они чуть не хором и умолкают.
– Но не всегда, – добавил кто-то.
– Правда, – поддакнул первый. – Бывало и тихо. Но проволокой было огорожено, и охрана ходила с собаками. Бывало, ребенок или баба подлезет под проволоку за грибами. Если девка молодая, то солдат ей юбку на голову, на землю повалит и хе-хе-хе… – все засмеялись злым, плотоядным смешком.
И вот неожиданно один из сидящих начал рассказывать, обращаясь больше к товарищам, чем ко мне:
– А помните, как Марфа из Новых Батеков, было это в августе тридцать девятого, пошла за грибами, а охранник ей: «Стой!» А потом на землю, юбку вверх и насиловать начал. Она хотела кричать, а тут собака здоровенная прибежала и стоит над ними, язык свесила и смотрит, смотрит…
– Верно, слюнки текли…
– Хе-хе-хе-хе!
– А Марфа перепугалась, не защититься.
Ветер разогнал дым, и опять понесло трупным смрадом. Каждый сплюнул по-своему – кто вбок, кто в огонь, – и снова все умолкли.
– А выстрелы, когда расстреливали, были слышны? – спросил я.
– Нет, ничего не было слышно, – другие кивнули головой в знак согласия…
– А я слышал. Слышал, – упирается Киселев.
– Он один только и слышал. Больше никто.
– Как же так, что до сих пор все было тихо и никто не проболтался?
– А вы, что ли, не знаете, как тут у нас…
– Откуда он может знать, – прервал Киселев, – человек издалека, из-за границы, может, приехал, а ты: «Знаете!» У нас язык за зубами держать надо…
– Да нет, я знаю, знаю. И я пожил при советской власти.
– Вот видишь, – вмешался первый, – человек, значит, свой. Понимает что к чему. Ему двух слов хватит.
Португальский корреспондент подошел к костру и смотрел, прислушивался к чужому языку.
– Что они говорят?
Вмешался немецкий переводчик. Я отошел.
* * *
Профессор Бутц лояльно признает наводящим на размышления тот факт, что, кроме Киселева, никто не слышал выстрелов.
– Я вам покажу гараж. – Мы идем в направлении известной нам уже «дачи», дома отдыха служащих НКВД. – Я искал в этом гараже, – продолжает Бутц, – следов крови. Я думал, что, как это часто бывает у большевиков, гараж мог служить местом казни. Тогда возле него ставят грузовики с включенными моторами. Но следов от пуль нет. Офицеров расстреливали у края могил. Очевидно, лес заглушал выстрелы. Калибр мелкий, а расстояние до ближайших изб большое. Может, есть еще люди, которые слышали. Мы ведь не опросили всех в окрестностях… К тому же, многих уже нет. Одни ушли в армию, другие эвакуировались при отступлении.
«Дом отдыха» действительно очень похож на типичную русскую дачу. Именно такие летние дачи строили себе до революции богатые купцы. Отсюда открывается очень живописный вид. Наконец есть чем дышать. Глубоко в долине течет Днепр, синий на фоне еще голых кустов, которые густо, как щетина, покрывают крутой берег. До самого низа обрыва идет деревянная лестница. Летом здесь, должно быть, чудесно. Можно купаться. Наверно, когда наступает тепло и все расцветает, тут заливаются соловьи. А осенью, наверно, алеет рябина, калина, летят над течением Днепра перелетные птицы к Черному морю и дальше, дальше на юг… Летят они, свободные, над этой тюремной страной, теперь еще изуродованной, развороченной, усеянной бункерами. Наверно, тяжело умирать, глядя на эту благодать Божию. Например, с веранды. Каких это людей рождали матери – людей, которые здесь отдыхали, потом шли в лес на палаческую работу и опять возвращались отдыхать? А что вы думаете, воробышки, там на крыше, что строите свои гнезда под застрехой? Они щебечут что-то, но их слов не понять. Молчат деревья и кусты, молча течет река.
Опять идет дождь. У доктора Бутца, плотно затянутого в мундир, вид слегка скучающий. Ему уже не раз приходилось сопровождать многих приезжих в Катынь.
– Вернемся, – говорит он.
Возвращаемся.
– Нельзя ли вас спросить, доктор…
– Пожалуйста. Я ведь для этого здесь.
– Вот меня интересует вопрос… неужели нигде не попадались гильзы от пистолетных патронов? И не удалось определить фабричную марку оружия, из которого расстреливали военнопленных?
Лицо немца становится серьезным.
– Ничего конкретного не могу вам пока сказать.
Но «тайна пистолетных гильз» скоро разъясняется.
Однажды я стоял вблизи доктора Водзинского и наблюдал, как он с помощью ланцета извлек пулю из черепа убитого офицера. Я уже было протянул руку, чтобы взять пулю, но вмешался все тот же молодой человек в темных очках.
– О, нет! Они вам пулю взять не позволят. Ни пули, ни одной найденной гильзы.
Рядом стоит немецкий майор. Я спрашиваю у него разрешения. Он взял этот сплющенный кусочек свинца и в раздумье, будто взвешивая его на ладони, сказал наконец:
– Ja, ja, das konnen Sie behalten. (Да, вы можете это себе оставить.)
Вечером я еще раз, и теперь без обиняков, спрашиваю Словенчика о гильзах. Он объясняет, что некоторое количество гильз действительно было найдено, но по существу это не имеет значения… Теперь каждый может употреблять оружие любого происхождения… Гильзы – не доказательство…
Его ответ явно уклончивый. Удивляет, однако, нечто другое, а именно то, что на эту деталь расследования, говорить о которой немецкая пропаганда тщательно избегала, не напала – и вообще ее не затронула – и бдительная советская пропаганда. Любому внимательному читателю немецких сообщений о Катыни бросается в глаза полное умалчивание о фабричной марке боеприпасов – так неужели это не бросилось в глаза аппарату советской пропаганды в Москве?