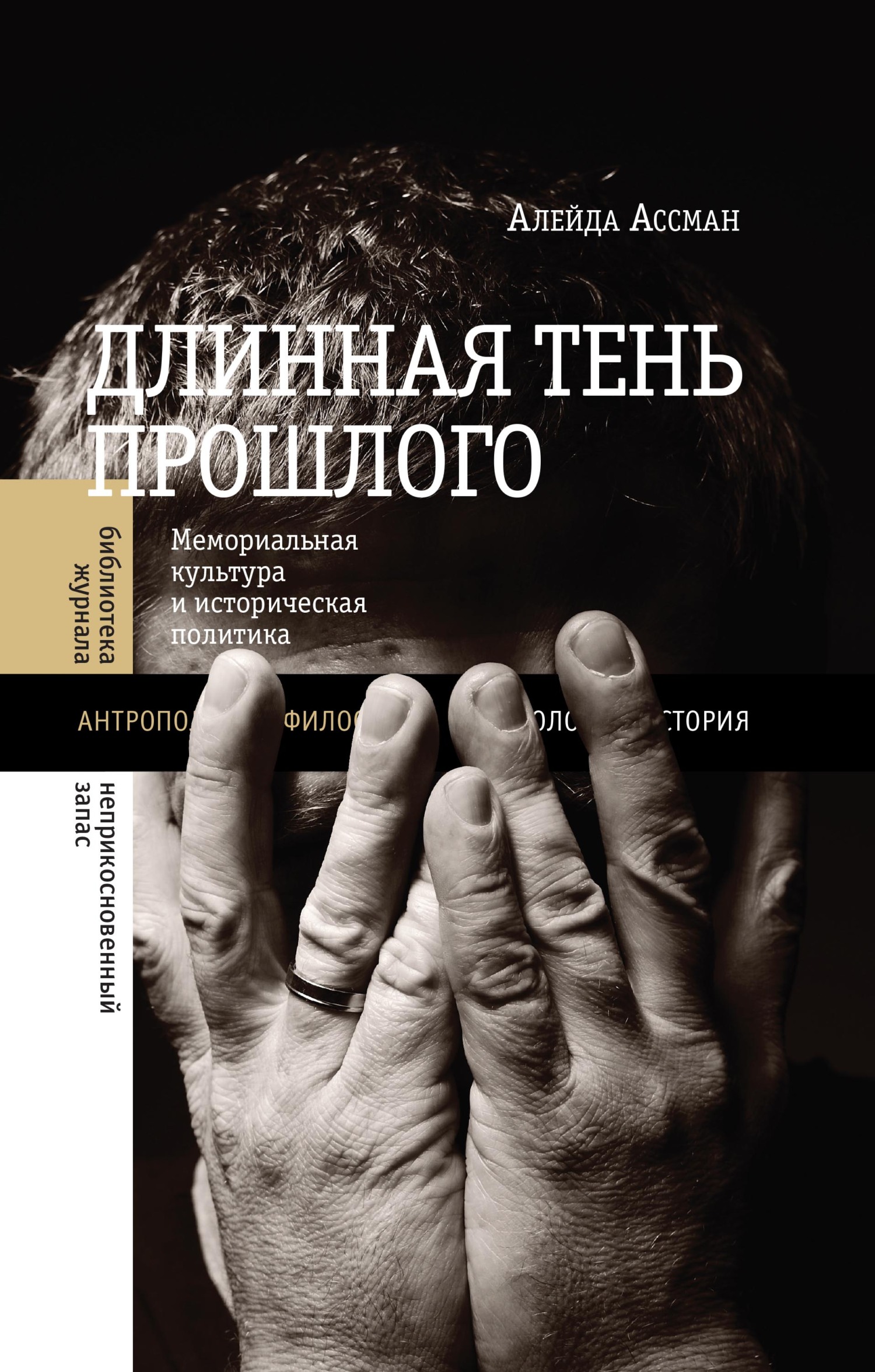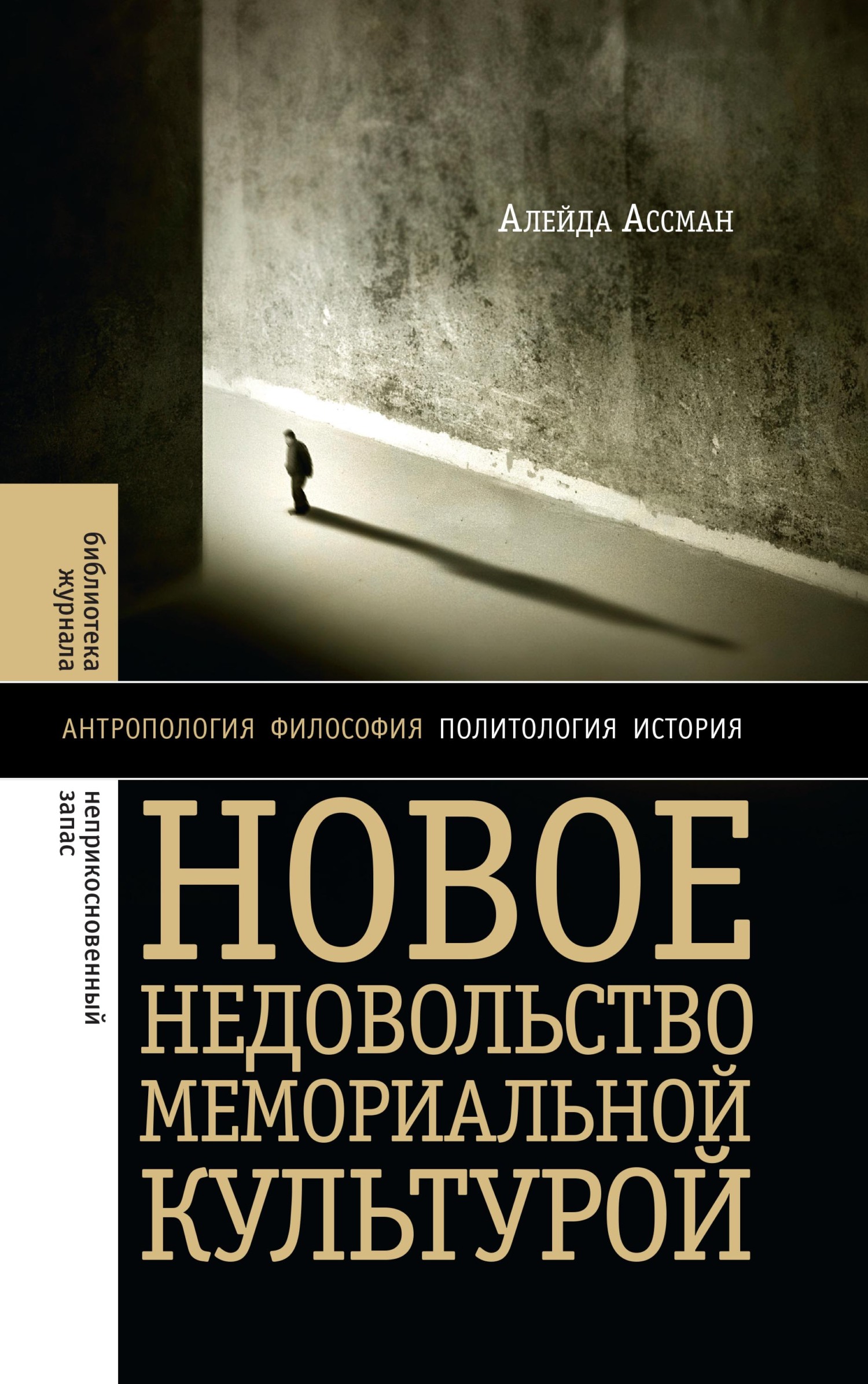я обозначаю как «я-память» и «меня-память». Если «я-память» вербальна и декларативна, то «меня-память» мимолетна и диффузна, хотя и не лишена некоторой определенности; «меня-память» апеллирует скорее к чувствам, нежели к рассудку. Психологи и психотерапевты интенсивно занимались «я-памятью», увязывая ее с концептом «story» [171]. Согласно данному концепту, мы представляем собой совокупность историй, которые рассказываем о себе. Личностная идентичность конструируется посредством рассказа, который упорядочивает хаотичный запас наших воспоминаний, придает им запоминающуюся форму и наделяет определенным значением. Задача активной «я-памяти» состоит в том, чтобы сознательным усилием вызвать из памяти те или иные воспоминания и облечь их в форму рассказа, что, наделив их значением, откроет перспективу на будущее. Автобиографическая память вписывается в данный формат автоматически; чтобы придать форму хаотичным воспоминаниям, необходимо, отойдя на некоторую дистанцию по отношению к самому себе, принять установку на диалог и занять определенную позицию. Автобиографические воспоминания обладают социальным компонентом: мы должны суметь рассказать о них себе и другим.
Если психологи и психотерапевты способны многое поведать о «я-памяти», то хаотичная и предсознательная «меня-память» привлекала к себе внимание исследователей в меньшей степени. Здесь нам придется прислушаться к таким писателям, как Пруст или Грасс. Поэтому вернемся к упомянутой речи Грасса, чтобы привести из нее довольно пространный фрагмент:
«При возвращении в города, которые остались позади, оказались разрушенными и обрели чужие названия, нас внезапно настигают воспоминания. Так произошло и со мной весной 1958 года, когда я впервые после войны посетил медленно восстававший из расчищенных руин Гданьск, питая некоторую надежду найти следы Данцига. Что ж, школьные здания продолжали стоять, из их коридоров не выветрился знакомый, застоявшийся запах. Но потом, когда я навестил бывшую рыбацкую деревушку Брезендорф, услышал неизменный ленивый плеск Балтики, я вдруг очутился перед закрытым пляжем, у стоящего сбоку от входа заколоченного киоска. И тут же вспенилась самая дешевая услада моего детства: растворимый порошок со вкусом малины, лимона или ясменника, пакетики которого продавались в этом киоске за несколько пфеннигов. Но едва мне припомнился тот шипучий напиток, как сразу начали множиться правдиво-выдуманные истории, словно они только и ждали верного пароля. Обычный растворимый порошок вызвал в моей голове цепную реакцию: шипучка и первая любовь, щекотка пузырьков – моя тогдашняя частая услада, какой я потом не испытывал никогда» [172].
Благодаря своему мастерству писатель в одном абзаце сумел сделать несколько вещей сразу: поведать эпизод из своего детства, пробудить воспоминание и одновременно точно охарактеризовать сам процесс припоминания. В описании шипучего напитка, вызвавшего к жизни невольные воспоминания, слышится почтительная перекличка с Прустом, великим литературным предшественником исследователя «меня-памяти», которую сам Пруст именовал «mémoire involuntaire». Ту же роль, которую для Грасса сыграл вкус воображаемой шипучки, исполнил для Пруста реальный вкус бисквитного печенья «мадлен», размоченного в липовом чае, неожиданно и властно обернувшийся эпифанией глубоко запрятанного переживания.
Но и у Грасса автобиографическая память пробудилась в конечном счете под воздействием реальных чувственных импульсов. Он вернулся в город своего детства, побывал в гданьской школе и на пляже Брезена. Мы можем назвать эти места «lieux de souvenier», чтобы противопоставить их приватное и субъективное значение коллективным и культурным «местам памяти» (в терминологии Пьера Нора: «lieux de memoire»). Место и вещь являются важнейшими импульсами для «меня-памяти». Грасс пишет: «Безгласные предметы подталкивают нас». Это могут быть немые реликвии и фотографии, но также и бытовые вещи, вроде шипучки, которая вызвала из прежней жизни столь яркие воспоминания.
Что же за магия присутствует в неприметных местах или обычных предметах, способных вызывать столь неожиданные и сильные переживания? Ответ очевиден: мы сами произвели какие-то инвестиции, которые позднее принесли подобную отдачу. В этом отношении мнемоническая сила, присущая месту или некоему объекту, сродни силе античного «символа» (symbola). Так назывался предмет, который при заключении сделки разламывался надвое, после чего полученная каждым из участников половинка становилась свидетельством уговора и одновременно опознавательным знаком. Сложенные половинки служили как доказательством правомерности сделки, так и удостоверением идентичности обоих партнеров. Пользуясь этим образом, можно сказать, что многие из наших воспоминаний, особенно хранящихся в «меня-памяти», как бы разделены на две части: одна часть остается у нас, а другая воплощается в каком-либо месте или каком-либо предмете. Таким образом наше тело и наши чувства связаны многими нитями с внешним миром. Когда «меня-память» активируется, внешняя половинка соединяется с нашей внутренней, телесной половинкой. Место или предмет оказывается эффективным «триггером» для соматически ощущаемой памяти, к которой иначе нет ключа, топографической карты или какого-либо иного сознательного и контролируемого доступа. Мы не можем увидеть ее и управлять ею извне, так как эта память заключена в самой неподвластной нам плоти. Поэтому мы действуем вслепую, натыкаясь, по словам Грасса, на всевозможные препятствия и ловушки. У нас нет «волшебной палочки» для этой памяти, ибо мы в данном случае являемся не актором, а самой волшебной палочкой. Поэтому так нелегко подступиться к «меня-памяти»: нельзя просто извлечь из нее хранящиеся воспоминания; приходится ждать, чтобы они сами заявили о себе под воздействием соответствующего импульса или при предъявлении нужного пароля. Воспоминания дремлют в «меня-памяти» в виде скрытых диспозиций; диффузные и латентные, они готовы неожиданно отреагировать на определенный внешний импульс. Там, где внутренняя диспозиция и внешний импульс приходят во взаимодействие, происходит активизация соматически ощутимого воспоминания, которое транслируется из досознательной «меня-памяти» в сознательную «я-память».
Французский философ Анри Бергсон однажды написал: «Человек действия выделяется своей способностью вызывать нужные воспоминания тем, что он воздвигает в собственном сознании барьер, который защищает его от массы бессвязных воспоминаний» [173]. Это умозаключение содержит в себе суть аргументов, выдвинутых Фридрихом Ницше двадцатью годами ранее в работе «О пользе и вреде истории для жизни». Человека действия, которым восхищались Бергсон и Ницше, можно назвать виртуозом «я-памяти»; напротив, такие писатели, как Пруст и Грасс – сюда же следует добавить Джойса и Вирджинию Вулф, – являются виртуозами «меня-памяти», исследователями этого лабиринта наших предсознательных воспоминаний. Подобные воспоминания образуют невидимую сеть, связывающую наше тело с внешним миром.
Итак, внутри автобиографической памяти различаются две системы: основывающаяся на реконструктивной работе «я-память» и предсознательная «меня-память», неорганизованная и не поддающаяся реорганизации. Если первая формируется путем коммуникации со значимыми подобиями, то вторая активизируется за счет взаимодействия с определенным местом или предметом. Это место или предмет срабатывают как спусковой механизм, благодаря чему дремлющая в нас «половинчатая» чувственная диспозиция обретает целостность, чтобы – как это произошло с Грассом – перейти, благодаря саморефлексии, в сознательное состояние и подключиться к «я-памяти». «Меня-память» есть не что иное, как потенциальная система резонансов, струн, способных зазвучать. Какая