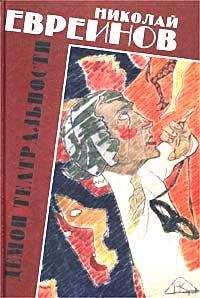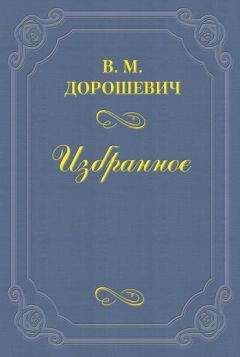В частности, особенную изысканность нам явит монодрама при изображении предметов, чисто эстетически воспринимаемых действующим. Как остроумно доказал Герман Зибек в своем «Das Wesen der ästhetischen Anschauung»{259}, каждый эстетически рассматриваемый предмет является для нас личностью{260}, — не только человек, что само собою понятно, но также и… неорганические предметы. Эстетическое созерцание имеет место там, где чувственное выступает в форме, в которой обычно выражается проявление личности; извлекая из объекта его естественную сущность, эстетическое созерцание обращает объект в выраженное во внешней форме настроение. Неодушевленный предмет делается личностью…
Ясное дело, что монодрама широко использует на сцене это олицетворение предметов, обусловленное восприятием их эстетически настроенным действующим. Она не останется индифферентной к видению действующим мистически прекрасных образов в речном тумане, к тем картинам, которые ему мерещатся в закатные часы на перламутрово-розовых облаках, и, если действующий преисполнен томления уайльдовского Нарработа, она может быть покажет в луне соблазнительный облик царевны, или покойницы, если он весь — предчувствие смерти, или пьяной развратницы, если действующий зажил Иродом, или девственницы, если это час его целомудрия, или, наконец, это действительно будет луна как луна, если в душе действующего пробил час того безразличного отношения к природе, каким была преисполнена Иродиада, выйдя в сад призвать мужа к гостям{261}.
{108} Возвращаясь от частного к общему, т. е. от чисто эстетического восприятия предметов к восприятию, не имеющему этой квалификации, я утверждаю, что и в последнем, более частом случае, монодраматический метод сценического обозначения остается методом торжествующим.
Художник сцены ни в коем случае не должен на подмостках «драмы» показывать предметы такими, каковы они сами по себе; представленные пережитыми, отражающими чье-то «я», его муку, его радость, его злобу, равнодушие, они только тогда станут органическими частями того желанного целого, которое поистине мы вправе назвать совершенной драмой. Выражаясь образно, в предметах, представляемых на сцене, должна как бы циркулировать кровь действующего лица, и самый каменный камень не должен молчать рядом с действующим. Револьвер, которым я любуюсь как блестящей игрушкой, уже не тот, когда я его деловито чищу своему господину, и уж, конечно, не тот, когда я его беру, чтоб застрелиться; — на каком же основании во всех трех случаях мне показывают со сцены ничего не выражающий, лишь балаганно-страшный револьвер! Ведь мне обещали драму, а не «только зрелище»? Я хочу жить одной жизнью с действующим, — настал момент глубочайшего сопереживания с ним! Так не развлекайте, не охлаждайте меня вашей «преступной» бутафорией!
«Но это условность! — заскрипят наши театральные тормозы, — необходимая условность, которая не может мешать настроившему свою душу в унисон с действующим; такой зритель, идущий навстречу замыслу автора, увидит предмет в настоящем свете, так как он легко может вообразить вид предмета таким, каким он должен быть по ходу пьесы» Но в таком случае, отвечу я, не надо ничего показывать! Гораздо легче все это вообразить, если фантазии не ставят препятствий{262}!
«Но неужели, — возмутится современный драматург, — к предметам сценического творчества можно отнести и мебель, и комнату, и деревья и пр.?»
Да.
Вот скамейка, (слышите? — «простая скамейка»), где вы подолгу сидели со своей возлюбленной. Теперь вас бросили, разлюбили… Осень… ветренно… и желтая скука отлетающих листьев. Вы бродите… вас тянет к скамейке (слышите? — «к простой скамейке»). Смотрите! Что-то случилось! Она уже не та! Она как будто выросла, стала большой, значительной; она стала такой серьезной и такой грустной в своей окаменелости. Когда вы уйдете, она может быть начнет перешептываться с увядшей травой о «тех» лунных росистых ночах, о «том» первом ее поцелуе. Она притворяется немой! Она живая! Но она сдержанная, а все понимает. И если где стоит заплакать, так это здесь, на этой скамейке; и если кого стоит поцеловать сейчас, так это ее, эту скамейку… И пусть драматург исчерпает все слова, достаточно сильные, чтобы представить эту «пережитую» скамейку, ее физиономию. И пусть режиссер употребит все усилия, чтоб показать ее такою же значительной и верной правде, какою грезит ее видеть драматург. Я нисколько не сомневаюсь, что при этих условиях такая «пережитая» скамейка прежде всего {109} сделает лишним две дюжины слов монолога (что в интересах сценической экономии времени), а затем нужные слова, их темп, их ритм, окраску она объяснит лучше всяких комментариев. И пусть художник-живописец поможет режиссеру своим вдохновенным эскизом, а бутафор и декоратор, идя навстречу крупному замыслу драматурга, режиссера и художника, свято выполнят свое назначение. Мы должны видеть эту скамейку, почувствовать ее, понять и взволноваться, а не только слышать про нее. Повторяю, мы приходим в театр прежде всего как зрители, а потом уже как слушатели; и все существенное мы непременно хотим видеть, созерцать и телесным и духовным оком. Дайте же нам это удовлетворение, если это сцена, а не кафедра, а не концертная эстрада!
В конце концов, для драматурга должно стать ясным, что если он желает представить жизнь духа, он должен оперировать не над внешними реальностями, а над внутренними отражениями реальных предметов. Ибо для психологии данного лица важно его субъективное видение реального предмета, а не самый предмет в безразличном к нему отношении{263}.
До сих пор мы говорили о декоративном превращении как об естественном следствии данной эмоции, данного душевного состояния, каковое при сценическом отображении обусловливает у зрителя желанную полноту сопереживания с действующим. Таким образом, причина декоративной метаморфозы предполагалась известной. Но некоторые из наших эмоций, наших чувств, бывают настолько цепко ассоциированы с тем или другим характером окружающей нас обстановки, что иногда по следствиям мы узнаем о причине.
В своем учении о характерах психолог Рибо отмечает такой знаменательный факт: «приняв на некоторое время печальную позу, можно почувствовать, что нами овладевает печаль; присоединяясь к веселому обществу и подражая его внешним приемам, можно вызвать в себе мимолетное веселье. Если придать руке загипнотизированного человека угрожающее положение со сжатым кулаком, то дополнением к этому само собой является соответственная мимика лица и движение других частей тела. Здесь причиной является движение, а следствием эмоция». Таким образом, заключает Рибо, существует неразрывная ассоциация между известными движениями и соответствующими им эмоциями, причем не только определенные эмоции способны вызывать определенные движения, но и наоборот — некоторые из движений субъекта способны вызывать в его душе соответственную им эмоцию{264}. И я полагаю, что мы не выйдем из пределов экспериментальной психологии, если понятие «движение» применимо и к декоративным превращениям в монодраматическом смысле. А при этом условии выигрыш в экономии времени — обстоятельстве крайне существенном для совершенной драмы — будет несомненен: мгновенно восходя от следствия к причине, т. е. от данного характера обстановки к душевному состоянию действующего, ее обусловившему, зритель иногда совершенно не будет нуждаться во введении в «психологию» действующего словесным или мимическим путем. Независимо от скорости и точности, своеобразная прелесть {110} такой сокращенной сценической передачи переживаний является лишнею заслугой монодраматического метода.
Как уже было объяснено выше, вся наша чувственная деятельность подчиняется процессу проекции чисто субъективных превращений на внешний объект. Под этим внешним объектом монодрама подразумевает не только неодушевленный антураж действующего, но и живых людей.
Как мы уже знаем, в совершенной драме, становящейся «моей драмой», возможен только один действующий в собственном смысле этого слова, мыслим только один субъект действия. Лишь с ним я сопереживаю, лишь с его точки зрения я воспринимаю окружающий его мир, окружающих его людей. Таким образом, последние точно так же должны перед нами предстать преломленными в призме души собственно действующего; другими словами, остальных участников драмы зритель монодрамы воспринимает лишь в рефлексии их субъектом действия, и, следовательно, переживания их, не имеющие самостоятельного значения, представляются сценически важными лишь постольку, поскольку проецируется в них воспринимающее «я» субъекта действия. На этом основании мы не можем в монодраме признавать за остальными участниками драмы значения действующих лиц в собственном смысле этого слова и по справедливости должны их отнести к объектам действия, понимая слово «действие» в смысле восприятия их, отношения к ним истинно действующего. Здесь важно не то, что они говорят и как говорят, а то, что слышит действующий. Как они выглядят сами по себе, остается скрытым; мы увидим их лишь в том виде, в каком они представляются действующему. Весьма возможно, что последний наделит их атрибутами, которых они не имели бы в наших глазах. По необходимости они предстанут перед нами преображенными. — Они будут незаметны, сливаться с фоном или даже поглощаться им, если в тот или другой момент они безразличны для действующего. Они будут стушевывать своим появлением всю обстановку, если действующий всецело поглощен их лицезрением. Они красивы, умны и добры, если действующий их представляет такими сейчас, и они же предстанут отталкивающе безобразными, если действующий разочаруется в них и воспримет их под другим углом зрения.