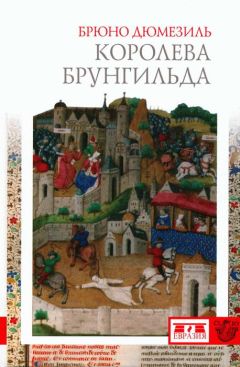Фортунат ловко предпочитал хвалить целомудрие короля, в высшей степени христианскую черту характера, не заговаривая о религии. Даже «благочестие» (pietas) Сигиберта, упомянутое вскользь, понималось в его римском смысле «политической добродетели»{140}. В течение всего стихотворения Бог христиан упорно не желал выходить на сцену. Правда, упоминание Троицы наряду с Венерой, Марсом и Купидоном граничило бы с кощунством. Но другие поэты того времени такое себе позволяли. Предпочитая не выходить из мифологической тональности, хоть это могло прогневить ригористов, Фортунат пытался прежде всего не затрагивать вопрос об ортодоксальности: он изображал Сигиберта королем целомудренным и великодушным, но не делал из него поборника католичества. Вестготы, сопровождавшие Брунгильду, могли успокоиться: свободе совести их принцессы ничто не грозило.
Восславив короля, эпиталама переходила к описанию добродетелей девицы, которую Сигиберт избрал в супруги. На этот счет Фортунат несомненно получил инструкции от Гогона, считавшего нужным, чтобы достоинства невесты, привезенной им из Испании, тоже похвалили. Балансируя на грани приличия, поэт принялся за рискованное описание прелестей юной женщины, заявив даже, что «ее цветущая девственность исполнена жизненной силы». Это никоим образом не эротическая игривость. Посыл, в высшей степени политического характера, адресовался на сей раз присутствующим светским вельможам: целомудрие Брунгильды — гарантия, что королевский наследник, когда родится, будет легитимен{141}. В то время как никто не мог бы утверждать, что Хильперик, Хариберт и Гунтрамн действительно приходятся отцами детям, которых признали, — разве можно доверять наложницам или низкородным женщинам? — Сигиберт был единственным государем, ручавшимся, что передаст потомству меровингскую королевскую кровь.
Мимоходом Фортунат упомянул, что по достоинствам невеста вполне заслуживает титула «могущественной королевы». Хорошо информированная аудитория опять же угадала в этом завуалированную критику коронованных голубок, разделяющих ложе с другими королями. Но, возможно, Брунгильде это внушило некоторые надежды, связанные с будущей ролью, которую она сможет играть рядом с троном. Если так, то она обманулась: у Меровингов подобный титул королевы не значил ничего, его могла получить любая женщина, с которой король переспал, если бы ему пришла в голову такая прихоть.
Ведь у франков настоящей властью обладал лишь мужской пол, и Фортунат, для которого это не было тайной, вскоре вернулся к портрету короля, чтобы его дополнить. Сигиберт, — разливался он, — унаследовал воинскую доблесть от своего отца Хлотаря и милосердие от кузена Теодоберта. По-прежнему поглощая изысканные деликатесы, аристократия вновь внимала предлагавшемуся ей идеологическому мессиджу. Ей напомнили, что Сигиберт был бесспорным Меровингом по происхождению, притом что на королевскую кровь тогда претендовало много авантюристов. Особо подчеркнули, что владыка Австразии обладает двумя важнейшими добродетелями — храбростью и милосердием. Храбрость Сигиберт показал, победив саксов, а потом лично выступив, чтобы отразить аваров. Что касается милосердия, то все помнили, что он пощадил сына Хильперика, пленив его в Суассоне, хотя имел право убить его в отместку за разорение Реймса. Для тех, до кого это могло не дойти, Фортунат подчеркнул: «Его сердце мужчины делает его снисходительным к ошибкам незрелого возраста. Где другие поступают дурно, он находит возможность победить прощением». Иными словами, в случае междоусобной войны муж Брунгильды собирался претендовать на роль объединителя.
Добродетели короля были выделены в этом стихотворении не только с тем, чтобы указать на их актуальность в меровингском мире, но и с тем, чтобы соотнести их с памятью о далеком и почитаемом прошлом. В самом деле, «храбрость» и «милосердие» входили в классический список императорских достоинств, о чем постоянно напоминали римские монеты и надписи. Лет двадцать тому назад те же достоинства уже вовсю поминала пропаганда Теодоберта I, величайшего из королей Австразии, который повел войска на завоевание Северной Италии в расчете добиться если не императорского титула, то по меньшей мере императорской значимости. Впрочем, набор слов, который использовал Фортунат для характеристики Сигиберта — caesareus, imperare, triumphare{142}, — сам по себе говорил больше, чем непосредственный смысл его фраз. В 566 г. Австразия претендовала на роль соперницы империи.
На миг отвлекшись от грез о пурпуре, Фортунат вновь вернулся к Брунгильде. Он долго описывал ее красоту:
«О дева, достойная моего восхищения, которая непременно обворожит супруга, Брунгильда, ты сияешь ярче факела в эфире, и блеск твоих глаз превосходит блеск драгоценных камней! Вторая Венера рождением, ты получила в приданое царство красоты; ни одна нереида Иберийского моря, которая плещется у истока Океана, не похожа на тебя, ни одна напея тебя не прекрасней, сами реки ставят своих нимф ниже тебя. Цвет твоей кожи, где молочная краска смешивается с алой, блистателен; лилии среди роз, золото, мерцающее на пурпуре, никогда не сравнятся с твоим лицом»{143}.
Жанр эпиталамы, конечно, предрасполагает к риторическим преувеличениям, но, как изящно заметил Марк Рейделле, великая сила Фортуната состояла в том, что лгал он всегда правдоподобно{144}. Этот поэт, конечно, не рискнул бы оказаться в смешном положении, публично расхваливая прелести заведомой дурнушки. Брунгильда, вероятно, имела привлекательную внешность, что отметил и Григорий Турский, вообще-то мало чувствительный к женской красоте{145}. В стихотворении прелесть принцессы отвечает прежде всего представительским требованиям: во время пиров, королевских въездов и в ходе других властных ритуалов, — а свадьба была первым из них, — Сигиберт должен был иметь возможность шествовать рядом с прекраснейшей женщиной франкского мира.
Однако для людей VI в. красота не сводилась к физической привлекательности. У этих аристократов, для которых еще было живо платоновское знание-припоминание, тело, дух и кровь считались связанными по существу. Красивым был тот, кто принадлежал к хорошему роду, кто величественно и естественно вел себя в соответствии с рангом. Красивым был прежде всего тот, кто был добрым, то есть милосердным, если он был могуществен, и щедрым, если он был богат. Черты лица, как считали или думали, что считают, отражали качества души. Прекраснее всех эти представления сформулировал патриций Динамий, написав одному из своих корреспондентов:
«Сияние вашей любви, блистающей в глубине вашей души невероятно ярким светом, освещает и спокойствие вашего тела, а очарование, блеск которого отражается на вашем лице, — это зеркало вашего сердца»{146}.
Фортунат, ставший близким другом Динамия, вероятно, разделял эту точку зрения. Поэтому его похвала Брунгильде шла дальше чисто чувственного уровня, и сложение молодой королевы он особо отмечал лишь потому, что оно могло отражать глубины ее души.
Итак, для внешнего наблюдателя Брунгильда была красива, потому что нежна и стыдлива, как и полагалось невесте. Красива она была и потому, что происходила из знатной семьи. Кстати, далее эпиталама напоминала о ее славных предках. Никто не должен был забывать, что Сигиберт женится на дочери короля вестготов Атанагильда, не имеющего мужского потомства, человека, царствующего над безмерно богатой Испанией. Даже те из присутствующих австразийских аристократов, кто менее всего был чуток к эстетике, при этих словах снова навострили уши. Им был хорошо знаком Иберийский полуостров, ведь в прошлом они туда попадали в ходе выгодных грабительских войн. Женясь на Брунгильде, Сигиберт получал если не права на это королевство, то по меньшей мере надежду: «Кто бы поверил, о страна германцев, что в Испании для тебя родится государыня, которая объединит под одной властью два богатых королевства?»{147} — несколько поспешно заключал Фортунат.
В то время как эпиталама завершалась упоминанием о «мирных забавах», которые последуют за свадьбой, и о надежде на маленьких принцев, которые родятся от этого, разные участники события могли задуматься о смысле сцены, которая только что произошла.
Среди организаторов Гогон несомненно выражал удовлетворение. Жена, которую он привез из Испании, королю понравилась. Что касается поэта, которого его друзья, немало потратившись, пригласили из Италии, то он очаровал публику, не считая отдельных ворчунов, у которых вызвал раздражение его мифологический бестиарий. Благодаря этому успеху молодой посол мог теперь питать надежды на успешную карьеру.