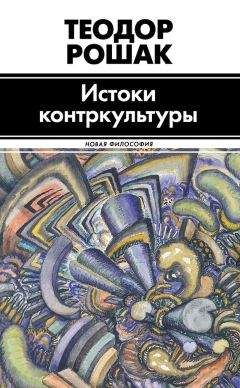Нет такого мира, настаивает светский темперамент. Великий Отказ, который Маркузе видит в визионерском искусстве и религии, эквивалентен отрицанию социального доминирования во имя радости и свободы, трагически искаженных глобальной несправедливостью. Вот так, и не больше. Маркузе, таким образом, опасно близко подходит к самой упрощенной фрейдистской интерпретации искусства и религии, когда творчество служит повязкой из фантазии для раненого принципа удовольствия. Однако не все видения великих людей были о запретных наслаждениях. Как часто им доводилось узнать ужас, сверхъестественное присутствие, непостижимое божественное, темную сторону души и леденящие кровь откровения! На чем мы должны основываться, чтобы сказать тем, кто заявляет о близком знакомстве с «духовными сущностями», что в реальности они их не знают? Или что то, что они знают, не входит в концепцию нашего освобождения?
Когда мы начинаем исследовать этот психический потусторонний мир, нелишне помнить различие, которое провел Р. Д. Лэнг между изучением и узнаванием по опыту того, что мы там найдем:
«Внутреннее не становится внешним, но внешнее становится внутренним при открытии «внутреннего» мира. Это только начало. Все наше поколение настолько отстранено от внутреннего мира, что возникает много споров – дескать, он не существует, а если и существует, то это неважно»[128].
Браун и Маркузе, вы и я, большинство из нас или даже все мы, кому надо начинать копать к выходу из-под старого, глубоко въевшегося отчуждения собственной сути: как смеем мы определять пределы реальности, находясь на темной стороне освобождения?
Жаворонок и жабы
Постскриптум к «Философскому исследованию Фрейда» Герберта Маркузе, вольная адаптация сказки о Чжуан-цзы
Жило-было общество жаб, обитавших на дне глубокого темного колодца, из которого совсем не было видно внешнего мира. Правила у них большая Жаба-босс, грозный агрессор, заявлявшая довольно сомнительные притязания на колодец, якобы принадлежащий ей вместе со всем, что там ползает и пресмыкается. Жаба-босс никогда в жизни не работала, чтобы прокормить или обеспечить себя, и жила за счет жаб-неудачников, с которыми делила колодец. Несчастные создания проводили все часы своих беспросветных дней и многие часы беспросветных ночей в тяжком труде в сырости и слизи, отыскивая крошечных червей и клещей, на которых жирела Жаба-босс.
Иногда эксцентричный жаворонок, трепеща крылышками, Бог знает зачем залетал в колодец и пел жабам обо всех чудесах, которые повидал в полетах над огромным миром: о солнце, луне и звездах, о подпирающих небо горах, плодородных долинах, безбрежных штормовых морях и о том, каково это познать бескрайний простор.
Всякий раз как прилетал жаворонок, Жаба-босс приказывала жабам-неудачникам внимательно слушать все, что говорила птичка. «Потому что он вам рассказывает, – объясняла Жаба-босс, – о счастливой земле, где все хорошие жабы получают награду, когда закончатся их земные испытания». Однако про себя Жаба-босс, которая была туга на ухо и плохо слышала, что говорил жаворонок, считала, что странная птичка не в своем уме.
Возможно, когда-то жабы-неудачники верили Жабе-боссу. Но со временем они стали цинично относиться к сказкам жаворонка и пришли к выводу, что птичка совсем выжила из ума. Более того, свободомыслящие жабы из их же рядов (а кто знает, откуда берется свободомыслие?) убедили сородичей, что Жаба-босс использует птичку, чтобы успокаивать их и отвлекать сказками о райских пирогах, которые получишь после смерти. «А это ложь!» – горько квакали жабы-неудачники.
Но была среди жаб-неудачников жаба-философ, которая предложила новую и весьма интересную идею насчет жаворонка. «То, что говорит жаворонок, не совсем ложь, – сказала жаба-философ, – и вовсе не безумие. На самом деле то, о чем жаворонок пытается нам рассказать в своей странной манере, – прекрасное место, куда мы выберемся из этого злосчастного колодца, если очень захотим. Когда жаворонок поет о солнце и луне, это означает чудесную новую форму просвещения, которая рассеет мрак, в котором мы живем. Когда он поет о бескрайнем ветреном небе, это означает полезную для здоровья вентиляцию, которой мы должны пользоваться, чтобы избавиться от зловонного промозглого воздуха, к которому привыкли. Когда жаворонок поет о головокружении от стремительного полета в райских небесах, это означает наслаждение освобожденных чувств, которое мы познаем, если нас не будут принуждать тратить нашу жизнь на суровый, тяжкий труд. И главное, когда жаворонок поет, как он, не зная преград, парит среди звезд, это означает свободу, которую мы все получим, если навсегда уберем с наших спин бремя в виде Жабы-босса. Сами видите, птицу презирать не надо. Напротив, ее надо ценить и хвалить за талант и вдохновение, которое освобождает нас из глубин отчаянья».
Благодаря жабе-философу у жаб-неудачников сложилось новое, более благосклонное мнение о жаворонке. Когда наконец пришла революция (а они всегда приходят), жабы даже начертали изображение жаворонка на своих знаменах и пошли на баррикады, старательно выквакивая лирический мотив песни жаворонка. После свержения Жабы-босса темный смрадный колодец волшебным образом осветился, проветрился и сделался куда более комфортным для обитания. Жабы узнали новый для себя досуг со множеством сопутствующих наслаждений для всех чувств, как и предсказывала жаба-философ.
Но эксцентричный жаворонок все равно прилетал в гости с рассказами о солнце, луне и звездах, горах, долинах, морях и о своих великих крылатых приключениях.
«Возможно, – строила догадки жаба-философ, – птица все-таки сумасшедшая. У нас ведь больше нет нужды в ее непонятных песнях. Так утомительно слушать фантазии, когда они утратили социальную актуальность».
И вот однажды жабы решили поймать жаворонка. Так и сделали, а потом набили из него чучело и поставили в только что построенный городской бесплатный музей на почетное место.
Глава IV
Путешествие на восток… и не только: Аллен Гинзберг и Алан Уоттс
Двадцать первого октября 1967 года Пентагон оказался в кольце осады пестрой антивоенной демонстрации. Среди пятидесяти тысяч протестующих были в основном активисты-преподаватели и студенты, писатели (в их числе и Норман Мейлер, возглавлявший свою «армию ночи»), идеологи новых левых, пацифисты, домохозяйки, врачи… А еще там присутствовали, как сообщается («Другой Ист-Виллидж»), «ведьмы, колдуны, святоши, предсказатели, пророки, мистики, святые, заклинатели, шаманы, трубадуры, менестрели, барды, тусовщики и сумасшедшие»; этот контингент едва не устроил «мистическую революцию». Были пикеты, сидячие забастовки, речи и марши – весь набор протестов против политики, но гвоздем программы стали выступления «сверхлюдей»: длинноволосые экзорцисты изгоняли дьявола из Пентагона, «бросая демонической структуре мощные слова, несущие свет дня» в надежде заставить этот мрачный зиккурат оторваться от земли и полевитировать.
Успеха они не добились – в том, чтобы стронуть с места Пентагон, я имею в виду, – но им удалось осчастливить свое поколение подлинно оригинальным политическим стилем, граничащим с аномалией. Отличается ли молодой политический активизм шестидесятых от своего аналога тридцатых годов? Разница просматривается лишь в беспрецедентном влечении к оккультизму, магии и экстравагантным ритуалам, которые стали частью контркультуры. Даже те протестующие, кто не принимал участия в обряде экзорцизма, с ходу приняли новшество, решив, что это молодежный стиль и лексика и нужно терпимо относиться к самовыражению молодых. Но до чего же странно видеть, как классическая риторика радикальной традиции Маркса, Бакунина, Кропоткина, Ленина уступает место заклинаниям и заговорам! Возможно, век идеологии заканчивается, и на смену ему приходит эра мистагогии.
Эклектичный вкус ко всему мистическому, оккультному и магическому является яркой особенностью нашей послевоенной молодежной культуры еще со времен битников. Аллен Гинзберг, играющий основную роль в становлении этого вкуса, в ранних стихах призывал к поиску приключений во имя Бога задолго до того, как он со товарищи открыл для себя дзен-буддизм и мистические традиции Востока. В его стихах конца сороковых прослеживается тонкое восприятие духовных переживаний («ангельское сумасбродство», как он это называл), и это позволяет предположить, что стиль нашего молодежного диссидентства изначально не совпадал со светской традицией старых левых. Уже тогда Гинзберг говорил о видении
Всех картин, которые мы носим в голове,
Образов тридцатых,
Депрессии и классового сознания,
Преображенных, поднявшихся выше политики,
Наполнившихся огнем
С появлением Бога.
Ранние стихи[129] резко контрастируют со стилем более известного позднего творчества Гинзберга. Как правило, это лаконичные истории в форме коротких упорядоченных стихов – ничего от знакомого неуклюже-бессвязного ритма (еврейско-мелвилловского дыхания, по выражению самого Гинзберга) до самого появления «Патерсона» в 1949 году. Но в них уже есть религиозность, которая придает поэзии Гинзберга совершенно иное звучание, чем у социальной поэзии тридцатых годов. С самого начала Гинзберг был поэтом протеста, но его протест не восходит к Марксу; нет, он достигает экстатического радикализма Блейка. Проблема в его стихах никогда не бывает настолько простой, как социальная справедливость; напротив, ключевые слова и образы – время и вечность, безумие и видения, рай и дух. Это мольба не к революции, а к апокалипсису о нисхождении божественного огня. А уже в конце сороковых мы видим первые эксперименты с марихуаной и хилиастическими[130] стихами, написанными под воздействием наркотика.