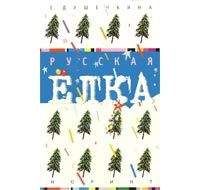мере в двух неотделимых друг от друга ипостасях. Во-первых, как вещи (с особым акцентом на вопросах ее использования) и, во-вторых, как символа (с особым акцентом на вопросах ее смыслового наделения и «прочтения»), поскольку именно благодаря символам идеи создателей елочной игрушки становились во многом видимыми и узнаваемыми. Такой подход позволил бы показать не просто «то, что символизирует или значит вещь» (в нашем случае – елочная игрушка), а то, «как, когда и почему она это символизирует, выходя за границы своей утилитарности и становясь органичной частью духовного пространства» 389.
Советская елочная игрушка была многофункциональна по своему назначению и сложна по своему содержанию, неся в себе явное или скрытое познавательно-образовательное, художественно-эстетическое, семантико-семиотическое и оценочно-идеологическое начало и представляя собой особый тип нарратива. По происхождению своему это могло быть и официально одобренное изделие, отражающее образовательно-воспитательную политику и образовательно-воспитательные стандарты, и самодельный образец, воплощающий семейные, домашние воспитательные установки и ценности. Этот текст был массовым не только в «бытовом» смысле этого слова (что достигалось широчайшим тиражированием, приобщенностью к нему практически каждого и сильнейшим влиянием его на массовое сознание), но и в классическом источниковедческом понимании (что обуславливалось его стандартизированностью по языку самовыражения, характеру содержащейся в нем информации и особенностью функционирования его в культуре). Своей «массовостью» советская елочная игрушка разительно отличалась от игрушки дореволюционной, ориентированной на избранных. Это был достаточно однородный, выдержанный по стилю текст, который при внешней фрагментарности каждого из его «высказываний» складывался на елке в законченное, целостное повествование. Это, конечно же, был визуальный текст, но с некоторыми вербальными элементами. Однако подчас лишь одно-единственное слово сразу наделяло елочную игрушку особым смыслом (как, например, надпись «СССР» на борту советского игрушечного аэростата). И, наконец, это, безусловно, был закодированный текст, где соотношение тайного и явного, эксплицитного и имплицитного могло бесконечно варьироваться в зависимости от того исторического контекста, в который эта игрушка была встроена, и той конкретной историко-политической ситуации, которой она была порождена.
Как объект «прочтения» елочная игрушка содержала в себе не менее трех видов информации: содержательно-фактуальную (факты), содержательно-концептуальную (идеи) и содержательно-подтекстовую (подтексты) 390. Особую трудность представляла расшифровка подтекстовой информации, возникающей благодаря способности елочной игрушки порождать дополнительные смыслы путем разнообразного и своеобразного сочетания ее визуально-символических характеристик. С другой стороны, сложность предметной организации самого «елочного» пространства также неизбежно оборачивалась сложностью и многокомпонентностью его смыслового поля.
Полиглоссия елочного текста предусматривала применение особых методов и приемов его транскрибирования и интерпретации. Эти методы могут быть рассмотрены на примере формирования «сверху» и восприятия «снизу» советского визуального елочного канона как некоего официального идеологически оформленного визуального образа. Этот образ оказался закрепленным как в вербальных, так и в визуальных текстах, причем как во «взрослых», так отчасти, хотя, к сожалению, в несоизмеримо меньшей степени, в «детских». «Взрослые» тексты были приоритетны при рассмотрении проблемы выстраивания советского елочного нарратива и предлагаемых властью путей, способов, методов и методик его прочтения. «Детские» тексты отражали специфику детского «прочитывания», детской «оптики» как особого способа освоения елочного визуального текста и создания идентичных или альтернативных его аналогов, но уже «детского» происхождения. (Этой же цели, кстати, могли служить и взрослые тексты-воспоминания о детстве, где «детское» отношение к елочной игрушке реконструировалось уже с позиций взрослого опыта 391.) В этой связи достаточно широко употребляемая в современном исследовательском дискурсе практика «разглядывания» источника, когда визуальный текст прочитывался подобно «телесной партитуре» (Р. Барт, Т. Дашкова, В. Подорога, М. Ямпольский и др. 392), оказалась приемлемой лишь с определенными уточнениями и ограничениями, поскольку «увидеть» елку следовало глазами ребенка. Неоценимое значение наряду с детскими вербальными текстами приобретали детские рисунки на «елочную» тему, в общем-то достаточно стандартного вида, но вместе с тем и с особой, узнаваемой стилистикой.
На примере той же елочной игрушки становится совершенно очевидной актуальность проблемы изучения ребенка как «продукта» визуального конструирования и как субъекта визуальной культуры. Ведь именно визуальное на протяжении достаточно долгого времени является основным способом детского познания и приобщения ребенка к окружающему миру. Позднее визуальное частично вытесняется и замещается вербальным, но при этом в целом сохраняется. В отдельных случаях оно вновь выходит на первый план, поскольку одним из характерных свойств детского восприятия и детской памяти является эйдетизм – способность к запечатлению и сохранению наиболее ярких, наиболее наглядных, в первую очередь зрелищных образов.
В своих воспитательных стратегиях и практиках советская власть не раз пользовалась услугами визуального как одного из самых доступных и массовых, согласно ее представлениям, способов обретения советскости и для взрослой, и для детской аудитории. Безусловно, при обращении к каждой из этих категорий зрителей существовала своя специфика, но некоторые подходы успешно срабатывали в обоих случаях. Таковыми оказались, например, «новые» советские революционные празднества 1920-х годов. Их достаточно синтетичная, зачастую уходящая корнями в прошлое, но заговорившая новым языком визуальная символика оказалась понятной и успешно воспринимаемой как детьми, так и взрослыми. Этот опыт был востребован и удачно применен в случае с возвращением в середине 1930-х годов рождественской/новогодней елки (и ее атрибутов, в том числе елочной игрушки). Именно детям принадлежала особая роль в процессе трансляции новой советской праздничной культуры в российские семьи и «осовечивания» старого рождественского праздника. В воспоминаниях находим примеры того, как в некоторых семьях взрослые не хотели зажигать елку в Новый год, оттягивая этот момент до Рождества, то есть до 7 января. Но дети, увидев зажженные накануне Нового года общественные елки, не желали ждать этого события целую неделю и ломали сложившиеся домашние правила, традиции и стереотипы 393: «Наша елка восхищала не всех. Очень неодобрительно смотрела на нее соседка по коммунальной квартире, и всякий раз объясняла моим родителям, что негоже наряжать елку так рано до наступающего Рождества. Ее елка, покорная и связанная, стояла на террасе нашего деревянного московского дома и ждала своего дня. И только шестого января, скромно украшенная, но зато с живыми свечами, она воцарялась в углу комнаты соседки до наступления, как та говорила, настоящего Нового года» 394.
Суть новой елочной игрушки была заложена не столько в ее внешнем виде и форме, сколько в ее смысле. Выстраиваемый на елке предметно-образный ряд, состоящий во многом из достаточно традиционных, привычных предметов, должен был отныне заключать в себе новый символический смысл и новые символические функции, направленные и на отторжение былой религиозной традиции, и на воплощение советского имперского дискурса. Между тем символ «всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее» 395. Мало кто из находившихся на елке задумывался над тем,