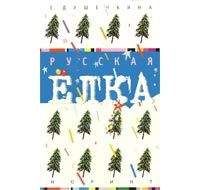увенчать советскую елку-победительницу, внесшую свой вклад в разгром врага (детям объяснялось, что своими густыми ветвями она укрывала разведчиков и партизан), в подражание высшей правительственной награде – золотой звездой:
Победа!
Разбиты враги навсегда!
Зажглась на груди
У героев звезда.
Теперь на вершинку
Лесную, простую
Тебе мы повесим
Звезду золотую»
Е. Трутнева. Золотая звезда 409
«Елка победителей». Мурзилка. 1943. № 11–12
Описания и изображения богато украшенной рождественской елки в Сокольниках («монтер Володя провел проволоку для освещения елки и подвесил к веткам электрические лампочки… елка была уже убрана. Все игрушки делали сами ребята. Тут были и медведи, и зайцы, и слоны. А лучше всех был румяный Дед Мороз с белой бородой; сидел он на елке – на самой верхушке» 410) и в Горках составили неотъемлемую часть советской детской «ленинианы» 411.
Образ новой елки также обязательно присутствовал в советских стандартных букварях 412.
Что касается взрослого производителя и потребителя елочной игрушки, то в выработке и формировании его вкусов большую роль играли как специализированные (например, журнал «Искусство», «Декоративное искусство в СССР»), так и массовые периодические издания, особенно женские («Работница» (с 1914 года), «Крестьянка» (с 1922 года), «Общественница» (1936–1941), «Советская женщина» (с 1945 года) и др.), содержащие «инструкции» по изготовлению елочной игрушки и украшению елки.
Как отмечал Ролан Барт, продукты подражательных искусств всегда включают в себя два сообщения: «денотативное, то есть собственно аналог реальности, и коннотативное, то есть способ, которым общество в той или иной мере дает понять, что оно думает о ней» 413. Позитивные коннотации, определяемые высокими возможностями приспособления советской елочной игрушки для текущих нужд воспитания, присутствовали не только в ее описании, не только в речи, но в первую очередь в самом ее образе, ее риторике. И этот образ следовало правильно воспринять. Визуальный синтаксис елочного нарратива был достаточно сложен и требовал предварительной подготовки для последующего прочтения.
Учитывая особенности детского восприятия, советская елочная игрушка должна была быть очень зрелищна, что достигалось за счет яркости, красочности, «удивительности» елочных украшений 414, и в то же время максимально доступна, что осуществлялось за счет простоты и узнаваемости образов (обычно – путем типизации и обобщения). Не случайно среди игрушечных образов советской елки было так много детских, а елочные «взрослые» – красноармейцы, матросы, милиционеры, колхозники, позднее – космонавты – часто выглядели как переодетые дети. Они отличались и детским телосложением, и детским выражением лиц («кукольные» лица), и «детскостью» одежды (даже «форменная» одежда взрослых была стилизована в данном случае под детскую). Таким образом, образы «елочных» детей были начисто лишены какого-либо дискриминационного содержания. Напротив, в елочной иерархии они занимали самые почетные места, потеснив и вытеснив оттуда взрослых, что вполне соответствовало общим установкам советской политической пропаганды, стабильно и неоднократно использовавшей и эксплуатировавшей детские образы в своих целях. Выглядевшие довольно реалистично, елочные дети и младенцы, с одной стороны, воплощали собой миф об уже существующем идеально счастливом советском детстве, а с другой – представляли собой некие показательные образцы, на которые следовало равняться и которым следовало подражать.
В соответствии с тогдашними воспитательными стандартами большинство елочных детей выступали не пассивными наблюдателями всего того, что происходило вокруг них, а активными участниками, «оснащенными» атрибутами их деятельности – санками, коньками, лыжами, книгой, лопатой, куклой и т. д. Пассивная созерцательность как способ времяпрепровождения и отношения к действительности на советской елке не пропагандировалась и не поощрялась.
Если советская культура елочной игрушки и отдавала приоритет каким-то возрастным категориям, то это, безусловно, были ребенок и старец (Дед Мороз, пушкинские Старик из «Сказки о рыбаке и рыбке» и Царь Салтан и др.) 415 Что касается гендерной принадлежности образов елочных игрушек, то они могли быть симпатичны и привлекательны (как привлекателен может быть маленький ребенок) и при этом абсолютно асексуальны. «У нас кукла есть образ ребенка, нашего ребенка… а не буржуазной “барышни”», – писала ученый секретарь Комитета по игрушке Е.А. Флерина в 1936 году 416. Эта установка полностью распространялась и на елочные «кукольные» фигурки.
Мужчине следовало присутствовать на елке прежде всего в качестве воина – прошлых веков (богатыри в кольчугах) или современного 417. Вырабатывавшийся в то время в СССР мужской идеал был близок к такому «милитаризированному» образу здорового, атлетически сложенного мужчины, готового ко всему (кроме эротики, которая из идейных соображений жестко табуировалась), некоего советского супермена, достойно выходящего из любой кризисной ситуации. Образ такого человека – «красноармейца, краснофлотца, милиционера, физкультурника, летчика» – вел ребенка, по мнению советских педагогов, «от самых простых, узкосемейных и бытовых картин к воспроизведению жизни коллектива, к широким общественным событиям и явлениям, к ярким героическим эпизодам нашей жизни» 418.
Из коллекции Л. Блатт. Советские елочные украшения из картона. 1. Белочка. 2. Петушок. 3. Дед и репка. 4. Морской конек; 1960-е гг. 5. Сестрица Аленушка. 6. Ежик. 7. Колобок и волк. 8. Тетерев. 9. Попугай
Весьма востребованы в связи с высокой степенью их узнаваемости оказались и персонажи русских народных сказок, и популярные герои советской детской литературы. «Надо иметь нам такие игрушки, которые должны быть на каждой елке, – писал один из идеологов «новой» елки С. Базыкин, – которые были бы так же характерны и популярны, как “Крокодил” или “Тараканище” Чуковского» 419. Недавняя реабилитация сказки в советских воспитательных практиках оказалась тогда весьма своевременной, поскольку «сказочность» отныне расценивалась как одна из основных характеристик новогоднего дерева: «Елка сказочна. На ней бывает то, чего никогда не бывает» 420.
Существенная роль в понимании новой елочной игрушки отводилась ее «очеловечиванию». Антропоморфна была и сама елка, которая «пляшет, словно комсомолка» 421, и елочные игрушки, которые «оживали» в новогодних сценариях и становились вместе с детьми полноправными участниками советских новогодних праздников 422. Здесь «танцевали», «пели» и «рассказывали стихи» советские военные корабли и елочные бусинки, шишки, снежинки и хлопушки и даже коробки с подарками. Соответственно, к сценариям прилагались тексты и ноты елочных песенок и выкройки костюмов «елочных игрушек» 423. Висевшая на елке игрушка тоже не имела права молчать: в соответствии с новыми педагогическими установками она обязана была «свистеть, хрюкать, мяукать, звенеть, квакать, хлопать, кукарекать» 424.
Украшения на елке были отнюдь не случайны. Можно даже говорить о создании особой советской елочной иконографии – изображении и воплощении в елочной игрушке типичных образов большевистского политического искусства