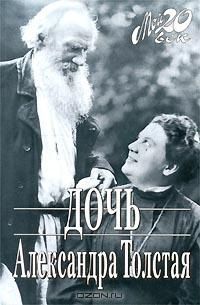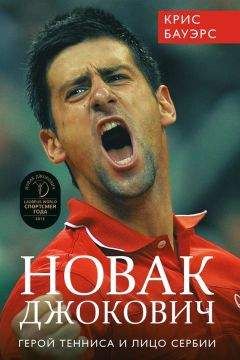- Возьмите с собой, Александра Львовна.
- Спасибо, Ваня!
И опять раскрашенная, без очков, я бежала по набережной к себе в лагерь, сжимая под мышкой половину ситника. И радость от свидания с сестрой и мужиками, радость от Ваниной ласковой улыбки была больше, чем от надежды на освобождение.
Через месяц меня выпустили.
Однажды в лагере я простудилась и пошла в околоток за аспирином. В коридоре меня остановила сиделка.
- Вы гражданка Толстая?
- Я.
- Вы в ЧК сидели?
- Сидела, а вам какое дело?
Я не любила расспросов. Мы знали, что за политическими следят и что можно нарваться на "наседку", поэтому избегали разговаривать с незнакомыми.
- А Ш. помните?
- Ш., вы знаете Ш.! - воскликнула я, невольно меняя тон. - Где она? Как мне найти ее?
- Она расстреляна, - строго проговорила молодая девушка.
- Расстреляна?!!
- Да. Я сидела с ней вместе после вас, она рассказывала мне.
- А Коля, Коля где? Жив?
- Жив. Его выпустили.
- А где он сейчас? Адрес его есть у вас? Ради Бога, скажите мне.
- Они там же, на старой квартире за рекой.
Сиделка оторвала кусочек бумаги и написала мне адрес, такой простой, несложный. И как это я тогда не посмотрела, не запомнила.
Ночью у меня был жар. Я лежала на жесткой койке, и мне казалось, что в камере душно, нечем дышать. Минутами я забывалась, но спать не могла.
Кошмары мучили меня.
Расстреляна. Тучное тело застыло бесформенной массой. Чекисты в остроконечных шапках ворочают ее с боку на бок, ища бриллианты. Мелькнуло лицо. Пухлые щеки закоченели, маленький, с правильно очерченными губами рот безобразно широко разинут, в диком ужасе застыли серые стеклянные глаза. Мертвая белая рука беспомощно размахнулась и звонко стукнулась о каменный пол...
Невыносимо!
Я вскакиваю. Сбрасываю с себя одеяло. Все тело в испарине. Достаю из-под койки чемодан с бельем, надеваю чистую рубашку и снова ложусь.
"И за что же? - звучит у меня в ушах. - За что? Я ведь ничего не сказала"...
Стараюсь не думать, но ослабленная жаром воля не подчиняется. Мысли снова и снова возвращаются к ней.
"Кто мог это сделать? Кто? Человек? Такой же, как я, как она? Нет. Неправда. Человек не мог этого сделать. Дряблую, старую, седую... в спину, в пухлую, со складками спину???"
- Не... воз... мож... но!!! - громко вскрикнула я.
Соседка моя встрепенулась, проснулась.
- Что вы сказали? Плохо вам? Не спится?
- Да, если можно, дайте мне воды, пожалуйста.
Она встала, налила в большую эмалированную кружку воды и подала мне.
- Спасибо.
"Господи, она ляжет, заснет сейчас", - с ужасом думала я.
Я не спала до утра. Когда рассвело, мне стало легче. Но я знала, что теперь уж не забуду их. Полковница и Коля вошли в меня навсегда, были связаны со мной страданиями этой ночи.
И вот я теперь снова на свободе. Я в своей квартире. Глиняный горшок все так же стоит в кухне на полке. Я написала Коле и Жене. Я их жду. И вот стучат, входит девушка лет двадцати и высокий костлявый малый лет семнадцати, плохо вымытый, растрепанный, бледный. Это он - Коля. Я смотрю на них так, как будто я их давно знаю. Женя одета бедно, но чисто, а Коля не умеет или не хочет прикрыть нищеты. В глаза бросаются штаны, бахромами болтающиеся по порыжевшим стоптанным башмакам, короткие рукава куртки, которые Коля тщетно старается натянуть.
- Вы Коля? - спрашиваю.
- Да.
- У вас документы есть?
Я задаю глупые, формальные вопросы, чтобы скрыть волнение, мне хочется схватить Колину громадную грязную лапу и крепко-крепко пожать ее, но я боюсь своего волнения.
- Покажите мне свои документы, - продолжаю я.
Женя торопливо достает их из потертой сумочки. Я не смотрю на них, они мне не нужны. Я иду на кухню. На горшке с засохшим растением - пыль. Я смахиваю ее и бережно вношу горшок в комнату. Они с недоумением смотрят на меня. Я вываливаю засохшую землю на стол, вынимаю и разворачиваю слипшуюся, потрескавшуюся клеенку...
- Вот, - говорю, - Коля, ваша мам? дала, это для вас...
- Мамочка!
- Да! Я не могла раньше... у меня отняли ваш адрес.
- Мамочка! Это ее вещи... ее. Вы?!
- Да, да. Мы с мамой внизу, а вы наверху, помните, в ЧК, на Лубянке, вы еще сахар и селедку...
Я не могу больше говорить.
- Мамочка, мамочка... Вы знаете, она... ее... - и он закрыл лицо руками.
Через несколько дней они снова зашли ко мне, беспомощные, жалкие.
- Видите ли, - говорила Женя, - наше положение сейчас такое незавидное, Коле надо одеться, он учится, мы решили продать...
Они точно извинялись передо мной.
- Да? Ну так что же? Конечно, продайте!
- Да, но мы очень боимся... Нe знаем, к кому обратиться. Это так опасно, говорят, за это расстреливают.
Я дала им адрес "надежного" спекулянта. Они, повеселевшие, ободренные, ушли. Больше я их не видала.
- Выпустили? Опять теперь начнете контрреволюцией заниматься?
- Не занималась и не буду, Михаил Иванович!
Калинин посмотрел на меня испытующе.
- Ну расскажите, как наши места заключения? Хороши дома отдыха, правда?
- Нет...
- Ну, вы избалованы очень! Привыкли жить в роскоши, по-барски... А представьте себе, как себя чувствует рабочий, пролетарий в такой обстановке с театром, библиотекой...
- Плохо, Михаил Иванович! Кормят впроголодь, камеры не отапливаются, обращаются жестоко... Да позвольте, я вам расскажу...
- Но вы же сами, кажется, занимались просвещением в лагере, устраивали школу, лекции. Ничего подобного ведь не было в старых тюрьмах! Мы заботимся о том, чтобы из наших мест заключения выходили сознательные, грамотные люди...
Я пыталась возражать, рассказать всероссийскому старосте о тюремных порядках, но это было совершенно бесполезно. Ему были неприятны мои возражения и не хотелось менять созданное им раз навсегда представление о лагерях и тюрьмах.
"Совсем как старое правительство, - подумала я, - обманывают и себя, и других! И как скоро этот полуграмотный человек, недавно вышедший из рабочей среды, усвоил психологию власть имущих".
- Ну конечно, если и есть некоторые недочеты, то все же, в общем и целом, наши места заключения нельзя сравнить ни с какими другими в мире.
"Ни с какими другими в мире по жестокости, бесчеловечности", - думала я, но молчала. Мне часто приходилось обращаться к Калинину с просьбами, вытаскивать из тюрем ни в чем не повинных людей.
- Вот, говорят, люди голодают, продовольствия нет, - продолжал староста, на днях я решил сам проверить, пошел в столовую, тут же, на Моховой, инкогнито, конечно. Так знаете ли, что мне подали? Расстегаи, осетрину под белым соусом, и недорого...
Я засмеялась.
Опять неуверенный взгляд.
- Чему же вы смеетесь?
- Неужели вы серьезно думаете, Михаил Иванович, что вас не узнали? Ведь портреты ваши висят решительно всюду.
- Не думаю, - пробормотал он недовольно, - ну вот скажите, чем вы сами питаетесь? Что у вас на обед сегодня?
- Жареная картошка на рыбьем жире.
- А еще?
- Сегодня больше ничего, а иногда бывают щи, пшенная каша.
Я видела, что Калинину было неловко, что я вру.
- Гм... плоховато. Ну, чем могу служить?
Помню, раз Калинин был особенно приветлив и весел.
- Заходите, заходите! - сказал он, увидев меня в приемной, где я разговаривала с его секретаршей, прекрасно одетой смуглой красавицей с пышной прической, отполированными ногтями и изысканными манерами. - У меня сегодня ходоки из Сибири, славный народ!
Ему, видно, хотелось, чтобы я присутствовала при его разговоре с крестьянами. А крестьяне действительно были славные, спокойные, большие, бородатые, в нагольных полушубках и валенках.
Обстоятельно, не торопясь, мужики рассказали, как соседний совхоз оттягал у них луга, принадлежавшие обществу.
- И отцы, и деды владели этими лугами, - говорил пожилой мужик, - а теперь, что свобода открылась, отняли.
- Да, ну теперь перераспределение. Вы вот что скажите: покосы есть? У вас как там надел, по душам или по дворам?
Калинин суетился. Вскакивал, присаживался на широкие ручки кресел, курил, перебивал крестьян, рисуясь, как мне показалась, знанием деревни, знанием мужицкой речи.
А я думала: "Вот и у яснополянских тоже отняли". После смерти отца около 800 десятин было передано крестьянам по его завещанию; пахотная земля осталась за крестьянскими обществами, а луга и леса отошли правительству, к тульскому лесничеству.
История, рассказанная сибиряками, была обычная: невежественные, опьяненные властью коммунисты иногда по-своему толковали декреты, а иногда слишком точно их исполняли и творили беззакония на местах, - по выражению центра, "искажали линию".