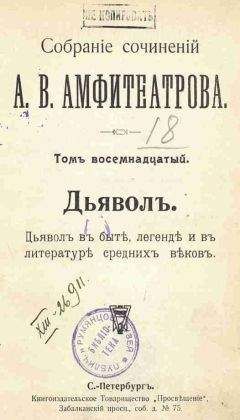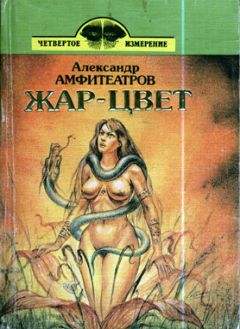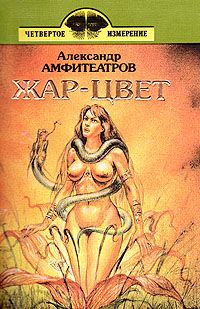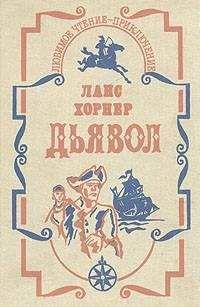музыке столько же, как и в поэзии. Ныне совершенно забытый Маршнер [192]прославился операми «Ганс Гейлинг» и «Вампир». Герольд [193]в опере «Цампа» даже предупредил Мейербера, рассказав звуками популярную итальянскую легенду о суккубе — мраморной статуе покинутой невесты. О балете я уж и не говорю: его романтика — постоянный апофеоз инкубата. Наконец, Вагнер сделал для мифа больше, чем кто-либо: любовное общение стихийных демонов со смертным человечеством — сюжет, пронизывающий все его оперное творчество, за исключением «Мейстерзингеров» и «Риенци». Не знаю, возможно ли выразить страсть и философскую глубину мифа о суккубах словами с большею силою и поэтическим проникновением, чем сумел Вагнер — музыкою чертовки Венеры в «Тангейзере».
У нас в России тему сверхъестественной любви — кроме Рубинштейна, счастливо создавшего «общедоступного», а потому гораздо выше всех достоинств любимого «Демона» (после Рубинштейна писали музыку на тот же сюжет барон Фитингоф-Шель [194], П. И. Бларамберг [195] и Э. Ф. Направник [196]), — особенно усердно разрабатывал Н. А. Римский-Корсаков. Фея в «Антаре», Снегурочка, царевна Волхова, Лебедь, Шемаханская царица, Кащей — удивительнейшие памятники не только внешне-музыкальных красот, но и совершенно исключительного, истинно народного чутья к тайне стихийного мифа. Одна из гениальнейших страниц во всей русской музыке — сцена очарований Ратмира в «Руслане и Людмиле» Глинки — еще ждет какого-нибудь своего Шаляпина в юбке, который растолкует публике сожигающую страстность этой бесовской галлюцинации. Темная власть демона, дышащего из страшных фраз Ратмира, остается еще невысказанной тайною. Может быть, оно и к лучшему, потому что иначе пролилась бы со сцены в зал страстная зараза, в сравнении с которою волшебство «Крейцеровой сонаты», как расписал его, к слову сказать, совершенно произвольно Л. Н. Толстой, должно показаться чуть не детскою молитвою. Я думаю, что если бы Глинка вложил музыку Ратмира в уста тенора, то эта сцена была бы самым страшным оружием обольщения, какое когда-либо создавала музыка. Но судьба заступилась за женский пол, надоумив великого композитора к расхолаживающей ошибке поручить глубочайшее выражение мужской страсти — женщине в мужском костюме, то есть воплотить его в глазах и воображении публики существом какого-то среднего пола: ни мальчик, ни девочка, ни для женской любви, ни для мужской. Глубокие контральто, которых требует партия Ратмира, довольно редки, и все чаще слышишь в Ратмире mezzo-soprano: новое препятствие к полноте впечатления.
«Ожидание божественного сна», о котором кричит и стонет Лохвицкая, — чувственное одиночество, бунт пола против вынужденного целомудрия, — и есть та атмосфера, в которой, как выражается едва ли не талантливейший критик современной Франции, Реми де Гурмон [197], «материализуется инкуб». Древность довольно богата сказками этого поверья: они отразились даже в законодательстве Моисея (Второзаконие, 4; Левит). Античный мир Эллады и Рима узаконил инкубат и суккубат бесчисленными баснями своей мифологии, с которыми вела беспощадную борьбу христианская апологетика, а неоплатоники тщетно пытались перевести их в стихийные символы пантеизма. Отцы Церкви верили в инкубов. Бл. Августин зовет их еще по-старинному фавнами и сатирами. Аскетическая пустыня, где мучились сверхчеловеческою борьбою с голосом плоти Антоний, Иероним и другие, оставившие нам потрясающие летописи своих искушений, сделалась рассадником и лабораторией мучительно страстных легенд, которые через «Жития святых» и устное предание прошли сквозь Средние века, обновились в эллинизме Возрождения и, назло рационализму, материализму и позитивизму новой цивилизации, благополучно доползли до XX века. Гностический маг, выдававший свою любовницу за перевоплощение Елены Спартанской, воскресает в «Фаусте» Марло [198], а еще 200 лет спустя Гёте пользуется тою же наивною сказкою о суккубе-Елене для одного из грандиознейших исторических символов, обратив союз Фауста и Елены в призрачный праздник Возрождения. Венера, перестав быть богинею, сохранила свои чары, как прелестнейшая и губительнейшая из чертовок. Она очаровала и завлекла в вечный плен доблестного рыцаря-поэта Тангейзера, за что XIX век мог послать ей позднее, но заслуженное спасибо, так как этой легенде мы обязаны чудесною балладою Генриха Гейне и гениальною оперою Рихарда Вагнера. Тангейзер был не единственною жертвою богини. Во мраке и скуке узких Средних веков ее — древнюю и неувядаемо юную — любили и искали многие, и она многих любила, как в старину, — по крайней мере, так же ревновала.
Английский летописец XII века Вильгельм Мальмсберийский [199] рассказывает сильным и красочным латинским языком удивительный случай, как некий знатный римский юноша сенаторского рода был захвачен демоном Венерою в самый день своей свадьбы. В промежутке пира брачные гости вздумали сыграть партию в шары. Боясь сломать обручальное кольцо, молодой снимает его и, чтобы не потерять, надевает на палец близ стоящей статуи. Окончив игру, он подходит, чтобы взять кольцо обратно, но с изумлением видит, что палец статуи, бывший дотоле прямым, согнут и крепко прижат к ладони. Побившись довольно долго, но напрасно, чтобы возвратить кольцо, юноша возвратился к пирующим друзьям, но о приключении своем не сказал ни слова, боясь, что его поднимут на смех или кто-нибудь пойдет тайком да и украдет кольцо. Когда пир кончился и упали сумерки, он, в сопровождении нескольких домашних и слуг, вновь идет к статуе и — поражен, видя палец опять прямым, а кольцо исчезло. Наступила брачная ночь. Но едва юноша лег рядом с супругою и хотел к ней приблизиться, как почувствовал, что между ним и ею волнуется нечто неопределенное, как бы густой воздух: ощутимое, но невидимое. Отрезанный таким образом от супружеских объятий, молодой муж вслед за тем слышит странный голос:
— Будь не с нею, а со мною, так как сегодня ты обручился и мне. Я Венера. Ты надел мне кольцо на палец. Кольцо у меня, и я его больше не отдам.
Юноша, испуганный чудом, не посмел возразить ни слова и провел остаток ночи без сна, молча обсуждая в душе своей этот загадочный случай. Прошло немало времени, но в какой бы час он ни пробовал приблизиться к супруге, всегда слышал и чувствовал то же самое. В конце концов, побуждаемый жалобами жены, он во всем открылся родным, и семейный совет пригласил уврачевать его некоторого священника из пригорода, по имени Палумб. Этот Палумб был знаток черной магии и командовал демонами, как ему было угодно. Заранее выговорив огромнейшее вознаграждение, он пустил в ход все свое искусство и, написав письмо магическими знаками, вручил его молодому человеку с наставлением:
— Поди в таком-то часу ночи на такой-то перекресток, где дороги расходятся на четыре стороны света, и внимательно смотри, что будет. Пройдут там многие человеческие образы мужского и женского пола, всяких возрастов, сословий и состояний; иные — верхом, другие — пешие; одни — с повешенной