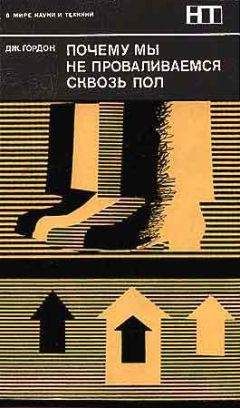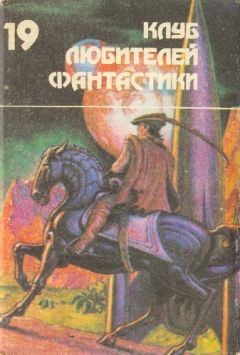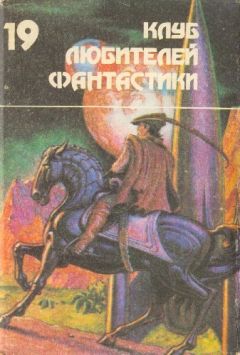первый административный статус в своей научной карьере, пост в Обществе робеспьеристских исследований закреплял международный научный престиж ученого. Немаловажна и духовная составляющая. Собуль отныне видит себя хранителем робеспьеристской, а, значит – Матьезовской традиции. Это не могло не отразиться и на его творчестве.
Отвечая на критические замечания Захера о робеспьеризме Матьеза, Собуль оправдывался, что для него главное – «политическая и экономическая несовместимость между санкюлотерией и буржуазией, даже якобинской». «Я совершенно не матьезовец, – продолжал Собуль. – Я согласен с Вами о “невозможности средней линии”… Когда “средняя линия” стала невозможной, Робеспьер взял сторону буржуазии и это было катастрофой» [486].
«Я совершенно не матьезовец», – повторял Собуль в следующем письме и прибавлял, что в вопросе о задачах национальной обороны Лефевр «всецело разделял точку зрения Матьеза» [487]. Следовательно, в важнейшем вопросе о роли этих потребностей в генезисе якобинской диктатуры Собуль сходился со своим советским коллегой и расходился с оценкой Матьеза – Лефевра.
В дальнейшем Собуль стал эволюционировать в сторону «классической традиции». В полемике с «ревизионистами» Собуль сформулировал поистине классическую схему процесса: 1789 год – «буржуазная и либеральная» революция, «пользовавшаяся поддержкой народа», 1792 год – вмешательство народа для сохранения «завоеваний 1789 г.», якобинская диктатура – «сдвиг влево, необходимый… для спасения революции» [488].
Можно, я думаю, заключить, что Собуль, так же как Кобб, отходил от своей позиции на рубеже 50–60-х годов; между тем это движение было прямо противоположным эволюции английского историка.
В автобиографическом письме Кобба того же времени (конец 50-х) содержалось откровенное признание о начале идейной эволюции: «Я понемногу становлюсь антиробеспьеристом и теперь не во всем согласен с позицией Анналов [489]. Робеспьер – это чистый папа в миниатюре, в первую очередь, это чудовищная спесь и самоуверенность. Кропоткин, я считаю, правильно его оценил. Трудно ему простить Верховное существо и, ОСОБЕННО, этот НЕПРАВЕДНЫЙ процесс эбертистов, это было настоящее убийство, хотя и с юридическими процедурами» [490].
Однако 1959 г. был для Кобба не тем временем, когда можно было афишировать разногласия с французскими робеспьеристами. Называя себя «аполитичным», Кобб, очевидно, намекал на свою отличную от Собуля и Рюде непартийную политизированность. Не будучи коммунистом, он был тем не менее последовательным антифашистом. Антифашизм был исключительно глубоким, составляя, судя по письмам к Захеру, основу его мировоззрения, как и самой личности, и побуждая с подозрением относиться к любой смеси авторитаризма с национализмом. Несомненно также, английский историк отождествлял себя с международной революционной традицией. Рождение в 1917 г. представлялось ему символичным.
Антифашистская тема преобладает в описании событий, связанных с крушением Четвертой республики. С самого их начала Кобб испытывает большую тревогу и за Францию, и за друзей-коллег, и за изучение Французской революции. Мятеж в Алжире представляется ему угрозой фашизма: «Мне бы не хотелось оказаться в фашистской Франции. Ситуация в Париже крайне тяжелая, и исследования революции ждут трудные времена, если мятеж колонистов завершится успехом. Я боюсь за моего друга Собуля и еще многих других» [491].
Политическая проблематика занимала вообще значительное место в переписке Кобба и Собуля с Захером. Видимо, Захер воспринимал события во Франции с большой тревогой, и Собуль стремится успокоить его: «Заверяю Вас, “Annales” так быстро не исчезнут. У нас теперь режим личной власти, но это еще не фашизм». Пессимизм Собулю внушают отношения между коммунистами и социалистами: «крайняя разобщенность прогрессивных сил, предрассудки одних, сектантство других» [492]. Возмущают его и массовые настроения: «В настоящий момент масса французов не видит опасности и… думает главным образом об отпусках» [493].
Захер откликается «посланием солидарности», воспринятым Собулем с благодарностью. Они единодушны в оценке обстановки и причин поражения левых сил на референдуме, обвиняя в этом cоцпартию [494]. Замечу, настроение Захера всецело отражало официальную советскую позицию. Как и в 30-х годах, в СССР крайне критически относились к социалистам, а в приходе к власти де Голля усматривали подобие фашистской диктатуры.
Начиная с весны 1960 г. в переписке между Собулем, Марковым и Захером обсуждается вопрос, с каким сообщением лучше выступить последнему на Коллоквиуме по Бабёфу, который должен был состояться в Стокгольме (во время XI Международного конгресса историков) и организаторами которого были Собуль и Марков. В программу коллоквиума «Бабёф и проблемы бабувизма» включается выступление ленинградского профессора на тему «Бешеные и бабувисты: Варле во время термидорианской реакции» [495]; и эту программу Собуль высылает Захеру 13 июля с припиской пригласить «советских коллег, делегатов Конгресса» посетить заседание коллоквиума [496]. В программе, замечу, значится лишь одна фамилия советского историка. Можно себе представить возмущение «советских коллег»!
Захер получил дружеское внушение от Манфреда: «Дорогой Яков Михайлович! Перед отъездом в отпуск пишу Вам несколько слов. Мне думается, что в связи с тем, что подготовка и организация коллоквиума по бабувизму в Стокгольме была проведена без контактов и советов (зачеркнуто. – А.Г.) с нами, едва ли будет правильным, чтобы был оглашен Ваш доклад, т. е., иными словами, чтобы Вы участвовали в этом коллоквиуме. Я бы Вам посоветовал написать Маркову [497], что Вы передумали и не хотели бы, чтобы Ваш доклад состоялся, сославшись на то, что статья была написана давно и не предназначалась для этой цели» [498].
Опасаясь подвергнуться остракизму, Захер «передумал» и был лишен возможности даже заочного участия в международном форуме, которое практиковалось в советскую пору для «невыездных» [499]. Профессору дали почувствовать, что «полной» реабилитации он так и не удостоен, и, каким бы авторитетом ни пользовался на Западе среди «прогрессивных ученых», на родине действует свой номенклатурный порядок, нечто вроде табели о рангах для ученых. Не случайно Далин, у которого к тому времени уже была подготовлена диссертация о Бабёфе с новым архивным материалом, предвидя эту коллизию, заблаговременно отказался от участия.
Между тем интересен сам механизм «отлучения» Захера от коллоквиума. Какую роль сыграл академический «истеблишмент», от имени которого выступил Манфред? В данном случае, полагаю, первостепенную, именно от этого «истеблишмента» исходила инициатива. Отсюда весьма деликатная форма и изысканно жесткая суть острастки: Захеру предписывалось не только дезавуировать научную значимость своего текста, но и удостоверить свое легкомыслие («передумал» – значит не подумал, как следует!).
До компетентных органов дело явно не дошло, да и терпели же они неофициальные контакты Захера: советским людям, в том числе ученым, полагалось вести зарубежную переписку по месту работы, а письма Захеру приходили прямо на ул. Аврова. И, разумеется, органы не интересовались вопросом, кому представлять советскую науку в Стокгольме. Зато этим очень интересовались коллеги, академическое начальство [500]. Зарубежное участие советских ученых строго квотировалось, а Захер своими неофициальными