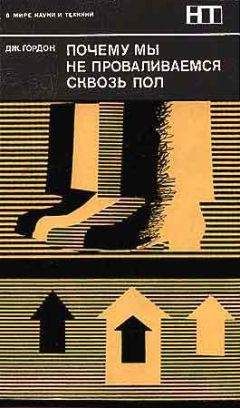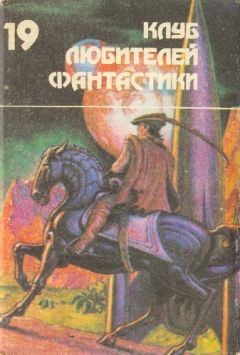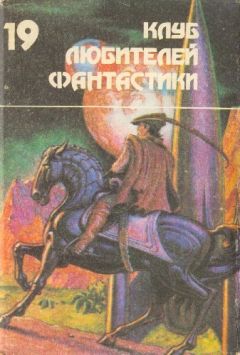контактами нарушил эти установленные правила.
Проучили заодно и «прогрессивного» французского ученого. Получив от Захера сообщение о совете Манфреда, Собуль воспринимает за чистую монету довод о неинформированности советской стороны. Он заверяет Захера в противном. Кому следовало, тот узнал [501]. «Что же касается “официальной” переписки с Институтом истории Академии наук СССР, пусть Манфред не удивляется, если организаторы (Марков и я) не информировали официально Институт: в таких случаях переписка становится очень медленной и нескончаемой». Обнаруживая верх неискушенности в советских порядках, Собуль продолжал: «Я предпочитаю корреспонденцию между друзьями, как с вами или с Далиным».
Вскоре Собулю дают исчерпывающим образом понять пределы дружеских контактов с советскими коллегами. Он получает телеграфное уведомление из Москвы из Института истории, что на коллоквиум «официальными» представителями от СССР направляются В.П. Волгин и Б.Ф. Поршнев. Собулю не остается ничего другого, как извиниться перед Захером. «Абсолютно необходимо, чтобы наш коллоквиум имел успех», – объясняет он свою позицию. Между тем «у нас уже есть трудности с “официальными” лицами Конгресса, которым бабефовский коллоквиум внушает страх и для которых мы ищем скандала… Не хватает еще, чтобы наши советские друзья создавали нам трудности» [502].
Поршневу Собуль сообщает, что получил уведомление о советском «официальном представительстве» и будет рад его видеть. Сухое деловое письмо с признаками политеса, обусловленными встречами во Франции и завязавшимися дружескими отношениями [503]. Оживленно начавшаяся переписка между ними сходит на нет (всего два письма за 1961–1971 гг.). В отличие от развивавшейся с этого времени переписки Собуля с Манфредом.
Итак, Собуль пошел на попятную. Захера на коллоквиуме не оказалось, и его сообщение не было зачитано. «Как Вы и просили, – сообщает Собуль, – оно не было прочитано под предлогом Вашего отсутствия и недостатка времени. Но поскольку это сообщение фигурировало в программе коллоквиума, я резюмировал его за пять минут – Поршнев и Иоаннисян, официальные советские представители, были согласны с этой процедурой (курсив мой. – А.Г.)» [504].
Так Собуля учили официальному советскому «этикету». Можно теперь лишь посмеяться над тем, что Поршнев, желавший учить Собуля глубинам марксистского анализа, явил себя вначале в роли наставника по официальным советским процедурам. Б.Ф. принял активное участие в работе коллоквиума, рассказал о бабувистских исследованиях в СССР и зачитал сообщение Далина. Доклад Волгина был зачитан Иоаннисяном [505].
На смерть советского друга (14 марта 1963 г.) Кобб и Собуль откликнулись прочувствованными некрологами. От своего имени и от имени Рюде [506] и Роуза Кобб писал о признательности к «советскому народу… великому союзнику в борьбе против германского фашизма» и о гордости иметь представителя этого народа своим другом. Подчеркивались революционные убеждения Захера, которые, как уточнял Собуль в параллельно опубликованном некрологе, «нисколько не ослабли», несмотря «на более чем 15-летний перерыв».
Характерно для «прогрессивных ученых» – они умалчивали о том, что стало причиной этого перерыва в занятиях наукой. Симптоматично также очевидное различие нюансов в оценке их последствий для Захера. Если Собуль бросал косвенный упрек однопартийцам, для которых разоблачение репрессий сталинского режима стало толчком к отказу от коммунистических идеалов, то Кобб отмечал подвиг ученого, «который имел мужество возобновить свою работу на том самом месте, где он был вынужден ее оставить» [507].
В пространном письме к сыну ученого Кобб называл Захера «великим историком», деятельность которого «немало способствовала уважению (brought much honour) к вашей великой стране (которая, как я постоянно говорил ему, имеет много друзей здесь, поскольку мы не можем забыть совместную борьбу против германского фашизма и жертвы советского народа)» [508].
Между тем гулаговское прошлое омрачало последние годы жизни. «Анаконда на люстре» не забывалась. Когда падчерица поступила в радиокружок и восторженно рассказала дома о возможности найти в эфире зарубежных корреспондентов, родители категорически воспротивились. «Не хватало, чтобы я сидел из-за тебя», – сказал Я.М. Люсе. С радио пришлось расстаться [509]. До конца жизни у ученого не пропадало ощущение, что он находится «под колпаком». В одном из последних писем он просил, чтобы я отправил приложенное письмо Вальтеру Маркову: «По некоторым соображениям желательно, чтобы оно было отправлено не из Ленинграда, а из Москвы» [510].
Было все-таки и другое. Было единодушное уважение в многочисленном тогда сообществе советских историков Французской революции. Пришло признание. Когда в 1950–1960-х годах в Институте истории проектировали издание трехтомника по революции, Захеру были предложены почти все главы о первом периоде, начиная со взятия Бастилии, специальный раздел «Революция и католическая церковь», развитие массового движения в 1792–1793 гг., а также последние выступления парижских низов – «жерминаль и прериаль», ну и самое весомое – «совместно с А.З. Манфредом» установление и крушение якобинской диктатуры. Общий объем около 18 п.л. [511].
А когда Захер сослался на свое нездоровье, заведующий Отделом, инициатор проекта Поршнев самолично взялся за перо, чтобы «настоятельно попросить» сделать «в первую очередь» главу о крушении диктатуры. «Насколько я представляю себе, – писал Поршнев, – подавляющее большинство советских историков и членов редколлегии считает правильной Вашу точку зрения. Лучше Вас никто ее не изложит для нашего трехтомника» [512].
Говоря о «правильной позиции», Б.Ф. конкретно имел в виду, думаю, статью о левой оппозиции Робеспьеру [513]. Судьба этой статьи, подобно всем основным работам Захера после реабилитации, была многострадальной. Предложенная в 1957 г. «Вопросам истории», рукопись пролежала в редакции без движения около года и была передана потерявшим терпение автором во «Французский ежегодник» [514]. Однако Манфреду она вряд ли могла понравиться и в итоге увидела свет в «Новой и новейшей истории», членом редколлегии которой был Поршнев.
Участие Б.Ф., похоже, явилось решающим. Сообщая Захеру об утверждении статьи редколлегией журнала, симпатизировавший ему Яков Самойлович Драбкин, работавший в редакции, писал: «Высказанные некоторыми из членов редколлегии соображения, будто в ней мало нового, были блестяще парированы Б.Ф. Поршневым» [515].
С Б.Ф. у Захера поддерживались более официальные отношения, чем с Далиным или Манфредом. Между тем, Поршнев очень уважал Я.М., следствием чего и стало приглашение меня в аспирантуру Института истории. 9 мая 1961 г. на заседании французской группы выступала С.А. Лотте. Поршнев спросил ее, как обстоит дело в Ленинграде с молодыми кадрами по истории Французской революции. Ответ Софьи Андреевны звучал неутешительно: был у Захера «кадр», но его не взяли в аспирантуру, и он куда-то уехал. «Кадр» присутствовал. После заседания Б.Ф. подошел ко мне и сказал: «Я ничего не обещаю. Могут не дать место, могут быть конкуренты. Но раз Вас назвали “молодым кадром” и раз Яков Михайлович рекомендует, надо поступать».
Поршнев поддерживал Захера против Далина и Манфреда в оценке отношений между «бешеными» и робеспьеристами. Передо мной