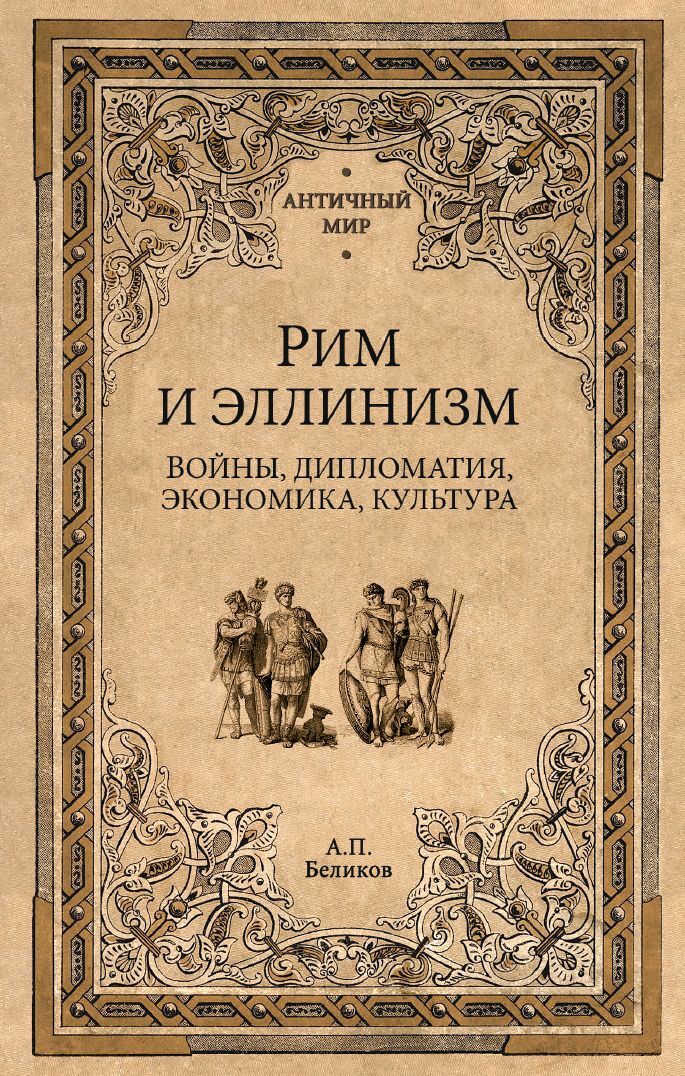а для иудеев – разочарование и обида, позже переросшие в недоверие и страх. Всё это омрачило последующие отношения.
Сначала евреи с уважением относились к римлянам, военная мощь которых была хорошо известна всему Средиземноморью. Иудея возлагала определённые надежды на союз, равное сотрудничество с Римом и его поддержку. Римляне же первое время не видели никаких отличий между иудеями и другими восточными народами, относясь к ним ко всем одинаково и довольно высокомерно. Если римляне свысока смотрели на греков, которым они были обязаны столь многими культурными заимствованиями, то ко всем прочим народам они тем более не испытывали, как правило, ничего, кроме презрения [726]. Иудеев квириты просто никак не выделяли из общей массы «варваров». Учитывая высокоразвитое чувство этнического самосознания и самоидентификации, евреи, безусловно, воспринимали такое отношение с обидой.
Затем Рим надолго потерял интерес к Палестине – т. к. он не мог больше получить от нее никакой пользы, то она стала ему просто не нужна [727]. Но за время, предшествующее более активным римско-еврейским отношениям, стороны лучше узнали друг друга, и это взаимное узнавание окончательно отвратило их друг от друга. По нашему глубокому убеждению, в межэтнических отношениях нельзя всё сводить лишь к социально-экономическим и политическим мотивам. Огромное значение имеют факторы чисто бытового плана, которые во многом и определяют аспекты взаимного восприятия. В период ранней империи один из 14 районов Рима был почти сплошь еврейским [728], на бытовом уровне контакты, безусловно, были. Конечно, они ограничивались во многом случайным общением, квирит не мог глубоко знать обычаев и нравов евреев, но какие-то чисто внешние впечатления для формирования своего отношения он имел.
С имперской политикой римлян был тесно связан и их «культурный национализм», утверждавший исключительность и превосходство римских обычаев, нравов и установлений над культурными достижениями всех прочих народов [729]. Евреев, вне всякого сомнения, должно было больно ранить римское высокомерие, на которое жаловались и другие народы Восточного Средиземноморья. Квириты же, активные и деятельные по натуре, с изумлением восприняли еврейское соблюдение субботы. С возмущением – обрезание, которое, по античным понятиям, было равносильно нанесению увечья [730] и надругательству над личностью мужчины и его человеческим достоинством. «Бедный! Обрезан он был» (Martial. Epigr. VII.82 – «verpus erat»). Религия иудеев казалась римлянам странной [731], Цицерон считал её варварским суеверием. Восприятие её римлянами чётко сформулировал Флор: «Иудеи – нечестивый народ» (XL. 5.30). Здесь, несомненно, он высказывает мнение, оформившееся задолго до его времени. Неслучайно Цицерон подчёркивал, что евреи и их религия чужды и враждебны традиционной римской системе ценностей (Flac. 69). Еврейскую общину города Рима он характеризует как suspiciosa ac maledica (Ibid. 68) – «недоверчивую и злоречивую» [732]. Есть все основания говорить именно об этнически-ментальном взаимном неприятии этих двух народов.
Сенека, Тацит, Квинтилиан занимали по отношению к иудаизму явно враждебную позицию; Гораций, впрочем, без желчи, иронизировал над легковерием евреев и их упорным стремлением обратить всякого в свою религию [733]. Не мог обойти их вниманием великий насмешник Ювенал: «…торгуют евреи бреднями всякого рода за самую низкую плату» (Satur. VI.546–547).
При этом римляне всё-таки недостаточно хорошо знали как самих евреев, так и их религию, хорошо понимая, впрочем, что она сильно отличается от собственно римских религиозных представлений. Неслучайно позже «принадлежность к еврейству определялась Римским государством не этнически, а религиозно» [734]. Следует добавить, что «всех шокировала обособленность евреев» [735]– но только благодаря ей еврейский этнос в условиях чужеземного господства и диаспоры мог сохранить свою самобытность. Для любой диаспоры вообще характерно внутреннее отчуждение от места проживания, оно усиливается от дискриминации и приниженного статуса, культурных барьеров [736], а здесь ещё добавились религиозная несовместимость и идея богоизбранной исключительности евреев. Однако римский менталитет, открытый миру и знакомый с эллинистическими идеями космополитизма, обособленность евреев воспринимал подозрительно – как проявление враждебного недоверия римскому образу жизни. Поэтому чисто психологически отношение к евреям определялось сентенцией: кто не с нами – тот против нас.
Наконец, идея богоизбранности евреев вызывала возмущение и насмешки, ведь для квиритов давно уже было ясно, какой именно народ является любимцем богов. Взаимное восприятие стало негативным задолго до того момента, как римляне и евреи впервые пролили кровь друг друга.
Всё это во многом объясняет те жестокости, которые позже, уже во время Иудейской войны, чинились Римом в Иудее [737].
Суммируя, можно сделать вывод: ментальная несовместимость в этнических отношениях имеет огромное значение. Накопление обид, как в межличностных, так и в межэтнических отношениях, неизбежно завершается взаимным отчуждением и нарастанием проблем в общении. Зачастую это заканчивается взаимной ненавистью и нескрываемой враждой. И тогда это очень надолго.
Глава III
Проблема «торгового империализма». Нелёгкий путь к провинциальному устройству Республики
Концепция «торгового империализма», возникшая в XIX в. и очень заметно повлиявшая на последующую историографию, не изжита до сих пор. Даже в новейших работах заметно её влияние, поэтому необходимо уделить ей особое внимание. Эта теория возникла в Новое время, когда политика ведущих держав была тесно связана с борьбой за рынки сбыта и конкуренцией национальной буржуазии. В Риме такой связи не было и не могло быть, как и расширенного производства, стимулирующего международную торговую конкуренцию. Разумеется, отсутствовал в древности и «класс капиталистов», занимающий столь важное место в теориях А.И. Тюменева [738] и модернизаторских построениях зарубежной историографии недавнего прошлого.
Устоявшееся мнение, что ослабление Родоса и уничтожение Коринфа – дело рук римских купцов [739], не соответствует действительности. Оценка римской политики глазами XIX века неизбежно ведёт к модернизации и искажению действительной подоплёки событий. Коринфяне больше всего подстрекали к войне (Vell. Paterc. I.XII.1), город уничтожили за обиду послам (Liv. Ep. LII; Eutrop.IV.III) и восстание (Just. XXXIV.2). Мотив мести [740], конечно, имел место. Неслучайно Г. Ферреро полагал, что Коринф уничтожили «гордость и жестокость Рима» [741].
Некоторые наши историки, пытаясь везде найти экономическую подоплёку, доводят значимость экономических вопросов до абсурда. Ахейское восстание объясняется тем, что римские купцы и ростовщики подрывали экономику союза [742]. Н.Н. Залесский саму агрессивность Рима обуславливает «торговой экспансией», вслед за другими исследователями видит «направляющую руку», согласующую «экспансию торгово-ростовщического капитала и политику Римского государства» [743]. Так же считают А.Л. Кац и Л.Д. Саникидзе [744]. Проникшие в восточные государства «римские торговцы и ростовщики подчиняли внешнюю и внутреннюю политику этих государств интересам Рима» [745].
Нельзя согласиться, что конкуренция не имела «никакой роли в Античности» [746], но не менее опасно и переоценивать её значение. Она существовала, но никогда не была сильной [747]. В древности особенно велика была роль посреднической торговли, но Рим