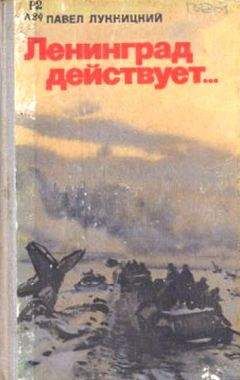…А Синявино, Мга будут взяты, как будут освобождены и все города, села, деревни нашей великой страны. Порукой этому — героизм миллионов советских людей!
Я приехал в Москву. Как и предполагал, меня решили было сделать разъездным корреспондентом по всем фронтам, с тем чтобы между поездками я жил в Москве. Ради того чтобы не оставлять Ленинград, я готов был даже расстаться с ТАСС вообще и добиться перевода в одну из воинских частей Ленинградского фронта. Об этом я поставил в известность руководство ТАСС и, пока находился в Москве, стал добиваться нужных мне результатов в Главном Политическом Управлении Красной Армии, в кадрах которого состояли многие спецвоенкоры органов центральной печати. В ожидании решения моей судьбы я писал в Москве для газет и журналов, для разных международных комитетов и для Совинформбюро рассказы, очерки и корреспонденции о людях Ленинградского фронта.
ТАСС долго задерживал меня в Москве. Здесь состоялось межфронтовое многодневное совещание военных корреспондентов, мне было поручено проанализировать все корреспонденции нескольких военкоров, выступить с докладом и рекомендациями. Происходили собеседования по поводу методов работы ТАСС и в Центральном Комитете партии. Выступая на совещании, пришлось резко и откровенно говорить о недостатках этой работы: о серости, безликости, штампованности публикуемого материала, — я был дружно поддержан редакторами «Вечерней Москвы», «Красного флота», «Труда», «Московского большевика» и других газет. Эти редакторы высказывали желание получать от ТАСС и рассказы, и очерки, и, главное, материал не от «одного корреспондента, подписывающегося десятком фамилий», а от многих, отличающихся друг от друга своей манерой писать. В результате были вынесены полезные для общего дела решения.
После совещания ТАСС согласился оставить меня до конца блокады на Ленинградском фронте, дав возможность публиковать через его редакции не только сухой репортаж, но и рассказы, и художественные очерки. Окрыленный этим обещанием, я выехал в Ленинград.
Мой московский дневник этого времени не имеет прямого отношения к обороне Ленинграда, поэтому здесь я даю лишь несколько записей, представляющихся мне ценными «с ленинградской точки зрения».
Встречи, размышления и наблюдения
6 марта. Гостиница «Москва»
В письме Мухтару Ауэзову в Алма-Ату пишу о пережитом в Ленинграде, о фронтовой жизни. И продолжаю так:
«…Но я все-таки доволен и ни за что не променял бы эту жизнь на прозябание в глубоком тылу, став подобным тем некоторым из наших «эвакуантов», коих, находящихся в жалком состоянии, ты встречаешь у себя в Алма-Ате. Я с грустью убеждаюсь в том, сколь многие, в единственном стремлении во что бы то ни стало сохранить свое существование, утратили и чувство собственного достоинства и вообще человеческий облик.
У нас, в Ленинграде, людей мало, люди очень нужны. Я за это время узнал, что родной город можно любить, как близкого родного человека, — я не могу жить без Ленинграда, несмотря на то что в нем как будто и одинок и бездомен: квартира моя разбита, ни жены, ни родственников у меня в нем нет.
И уж если суждено мне будет дожить до того светлого дня, когда ни одного гитлеровца под Ленинградом не станет, — я знаю, что всю жизнь буду считать правильным свое решение не покидать этот город, несмотря ни на что, какие бы трудности на мою долю ни выпали.
Вот, Мухтар-ага, я знаю, ты меня поймешь, ты знаешь, что такое любовь к родине, ты любишь свой родной тебе Казахстан, мог ли бы ты покинуть Алма-Ату, если б твой город осаждали враги? Я уверен: ты оказался бы в рядах самых упорных его защитников… Вот ты зовешь меня пожить у тебя спокойно.
Нет, Мухтар, я приеду в Среднюю Азию и в Казахстан тогда, когда буду сознавать, что мой долг перед войной выполнен до конца, что я заслужил право отдыхать и быть равным среди казахов так же, как я сейчас равный среди людей на фронте, отдавших себя служению Родине… И тебя тогда позову в гости к себе в Ленинград, мне не совестно будет чувствовать себя в нем хозяином…
Кое-кто, преисполненный высокомерия, со скептической усмешкой называет меня романтиком! Что ж, быть романтиком в том смысле, что человек сохраняет любовь к Человеку, когда многие это чувство утратили, быть романтиком в том смысле, что человек не считает извечно высокие понятия словесной мишурой, — разве так уж плохо?
Я, Мухтар, был свидетелем стольких случаев подлинного героизма, что не мне утратить веру в чистоту вековечных принципов. И если многое в нашем мире, даже до этой ужасной войны, было несовершенно, то разве следует удивляться, что всякий стремящийся к совершенству художник видит пути к совершенству везде и во всем и верит в существование доброй воли к достижению этого совершенства?
И разве не следует все личное направлять в то единое русло, которое ведет к этой цели?..
А проще сказать: я могу в этой войне растрачивать свои силы, свое здоровье, но не могу и не хочу растрачивать свою душу…»
Только что по морозцу, под рядами тускло посвечивающих, обозначающих лишь направление улиц фонарей, вернулся из филиала МХАТ, где смотрел «Школу злословия», хорошо исполненную и потому весьма освежающую. Это — чуть ли не первый спектакль, посещенный мною за все время войны…
10 марта. Вечер
Кругом разговоры — «зачем вам ехать сейчас в Ленинград?..».
Слов нет, мой организм настойчиво требует юга, солнца, отдыха, — я никогда прежде не мог высидеть за работой в Ленинграде дольше, чем несколько зимних месяцев.
Да, это так хорошо: солнце, юг, покой, отдых, обстановка, не требующая непрестанного нервного напряжения, что об этом можно мечтать, я это вижу даже во сне. Но я гоню от себя эти мысли, как искушение дьявола. Ибо не вернуться в Ленинград значило бы продать свою душу.
Один из приятельствующих со мною писателей уверял меня: «Это — фетишизм, думать, что твой долг быть именно в Ленинграде. Будто ты не можешь быть полезен в другом месте?..» Но я тут же ловил себя на мысли: сей приятель высказался так потому, что сам в Ленинград возвращаться не собирается.
Голос совести говорит: «Поезжай в Ленинград и оставайся там до конца. Может случиться: погибнешь, может статься: на всю жизнь останешься полуживым, но поезжай туда и будь там!»
Вчера, вверх по улице Горького — по широкому чистому асфальту, освещенному празднично-ярким весенним солнцем, — шел батальон пехоты. Шли командиры в золотых погонах, одетые чисто и опрятно. Шли колонны красноармейцев, кто в погонах, кто еще без погон. Шли [в] ботинках с обмотками, в затрепанных, грязных шинелях, с узелками за спиной, без винтовок. Люди были усталыми, лица их были серыми. Весенняя таль уже расхлябила снег, подснежная вода выбивалась с асфальта. Многие красноармейцы шли в валенках… Я понимал: этот батальон был только что сформирован из состава разных частей, из людей, прибывших с фронта. Он был принят свежими командирами…
Фронт от Москвы проходит в ста тридцати километрах, но Москва уже так отвыкла от чувства близости к фронту, так отвыкла от всего прямо напоминающего ей о фронте, что прохожие останавливались и смотрели на эту нестройную, разномастную воинскую часть… Это шли защитники Москвы, шли люди, готовые умереть за Родину, знающие, что такое их долг.
13 марта
Сегодня я чувствую себя великолепно, хотя и ездил за город и должен был как будто устать… Только что вернулся домой из Перова. Угощали меня и водкой, и американскими консервами, и ветчиной, и густым сладким компотом. В той воинской части — у пограничников — выступали участники обороны Севастополя, Одессы, Сталинграда и Ленинграда. От Ленинграда выступал Герой Советского Союза снайпер Пчелинцев, ныне гвардии старший лейтенант, недавно ездивший вместе с Людмилой Павличенко в Америку. После него выступал я, читал очерк о встрече ленинградцев с волховчанами в день прорыва блокады — материал хорошо мне известный.
Аудитория, состоявшая сплошь из курсантов-снайперов, встретила меня весьма хорошо и слушала с огромным вниманием… Пчелинцев — молодой, худощавый, с вздернутым носом, с мягкими чертами лица — говорил о том, как зародилось в Ленинграде снайперское искусство. Говорил внятно, гладко, толково.
Рядом со мной, за столом президиума, сидела женщина-майор, начальник женской снайперской школы, — серьезная женщина, сражавшаяся долгое время на Ленинградском фронте. Мы нашли общих знакомых и, пока выступали другие, вспомнили много эпизодов Отечественной войны на том, одинаково нам знакомом, участке фронта.
14 марта
Зашел к моим родственникам — Лагорио. Я давно знаю их, в былые времена постоянно останавливался у них, наезжая в Москву. Старик, глава семьи, умерший несколько лет назад, — был превосходным инженером, суровым, принципиальным, честнейшим служакой, любившим Родину, судившим обо всем строго и прямо. В последние годы своей жизни он строил какие-то военно-оборонительные сооружения на важных участках наших границ. Его уважали, он пользовался большим авторитетом.