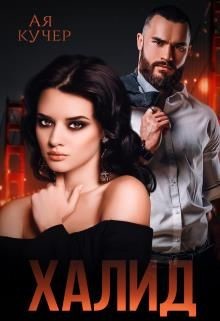коренным населением, видя в нем основную особенность тех лет, что последовали непосредственно после крушения самодержавия [Буттино 2007; Sahadeo 2007; Халид 2005]. Владимир Генис основное внимание уделяет слабостям различных русских деятелей, которые, с разной степенью самонадеянности, оказались причастны к тому, что невозможно назвать иначе чем «революционным авантюризмом» [Генис 20016,2003]. Другие исследователи изучали действие советской национальной политики в Средней Азии, и в результате в нашем распоряжении есть прекрасные исследования, посвященные созданию Туркменистана [Edgar 2004], Кыргызстана [Loring 2008] [1] и Таджикистана [Bergne 2007], а также национально-территориальному размежеванию Средней Азии, которое определило и нынешние политические границы в регионе (см. далее). Некоторые ученые плодотворно использовали открытия постколониальных исследований для изучения отношений Средней Азии к Советскому государству [Northrop 2004; Michaels 2003; Cavanaugh 2001]. Также существует ряд трудов, посвященных отдельным аспектам и эпизодам рассматриваемого периода, от антирелигиозных кампаний [Keller 2001] до кинематографа [Drieu 2013], есть даже крупное исследование снятия женщинами паранджи и пересмотра их места в обществе [Kamp 2007].
Что касается историографии, созданной непосредственно в Узбекистане, – к сожалению, она по-прежнему замкнута на самой себе и подчиняется собственным императивам. Национальный нарратив сменил собой прежний советский, при том что по-прежнему сильна методологическая и институциональная преемственность по отношению к советскому прошлому; то же можно сказать и о роли государства как главного спонсора, оплачивающего работу историков. В результате вместо того, чтобы опровергнуть советские подходы к истории и полностью от них отказаться, исследователи остаются в той же парадигме, просто перевернув ее на 180 градусов. В Узбекистане раннесоветский период традиционно рассматривался как источник узбекской национальной государственности, хотя именно в это время национальное освободительное движение было жестоко подавлено силами «советского колониализма» [2]. Неудивительно, что литература, о которой здесь идет речь, имеет склонность недооценивать масштабы конфликта, расколовшего мусульманское общество [3]. В этом нарративе центральную роль играют джадиды, как духовные отцы нации и как ее мученики. Их труды были вновь допущены к печати уже на кириллице, и избранные из среды узбекских ученых получили возможность работать в партийных архивах и в архивах правоохранительных органов (обычно закрытых для исследователей), с тем чтобы создать небольшой корпус жизнеописаний и биографических заметок. Однако до сих пор не вышло в свет ни одного подробного обзора истории джадидизма и ни одного фундаментального труда по политической истории 1920-х годов [4].
Несмотря на появление целого ряда новых работ, в наших знаниях о раннесоветском периоде в Средней Азии, о создании Узбекистана и «узбекскости» до сих пор существуют многочисленные лакуны. Из упомянутых здесь западных ученых только Мариан Кэмп и Адриен Эдгар широко используют материалы на языках среднеазиатских народов и уделяют основное внимание населению региона (в противоположность интересу к деятельности советской власти и коммунистической партии). Кроме того, крайне мало известно о «туркестанском периоде», то есть о годах между революцией и национальным размежеванием. Большинство исследователей рассматривали этот период довольно поверхностно, в рамках предыстории других изучаемых вопросов, однако связного обзора этих крайне важных лет не существует [5]. О Бухаре в этот период известно еще меньше [6]. Эти лакуны указывают на то, что об Узбекистане и его истоках мы знаем меньше, чем о других странах Средней Азии. Ситуация удивительная, ибо можно сказать, что в некотором смысле история Узбекистана есть одновременно история всей Средней Азии. Узбекистан был главной среднеазиатской республикой, наследником дореволюционной концепции джадидов о народе «туркестанских мусульман» и домом для большинства оседлых мусульман в Средней Азии (а также местом расположения всех крупных городов в этом регионе). Также он был центром политической власти. Прочие же республики выделялись в противопоставление Узбекистану, и особенно это касалось Таджикистана.
Задача этой книги – восполнить обозначенные пробелы и предложить читателям первое связное изложение истории оседлых обществ в Средней Азии непосредственно после русской революции. В ней одновременно рассматриваются самые общие вопросы относительно природы преобразований в Средней Азии и реконструируются самые частные исторические подробности, которые давно заволокло туманом, или такие, которые долгое время понимались неправильно. Здесь прослеживаются истоки самой идеи «узбекскости», зародившейся в среде мусульманских интеллектуалов, и процесс создания Узбекистана в период национального размежевания Средней Азии, в 1924 году. В центре внимания находится дореволюционная интеллигенция Туркестана и Бухары, а также их путь через бурные годы русской революции и установления советской власти. Тем самым в этой книге предлагается новое объяснение того, что вкладывалось в понятие «узбекскости» и как это воплотилось в Узбекистане.
Нация, прогресс и цивилизация в революционную эпоху
Революция привела к радикализации джадидизма и расширила его горизонты, но не она его породила. Этот проект коренился скорее в чаяниях зарождающейся интеллигенции, которая формировалась в крупных городах Средней Азии на протяжении десятилетий, последовавших за российским завоеванием 1860-х и 1870-х годов. В поисках путей для выхода из трудного положения, в котором находилось их общество, джадиды – так в литературе принято называть последователей джадидизма – задолго до революции оказались охвачены страстным стремлением к прогрессу (тараққий) и цивилизации (маданият). При этом увлечение идеями прогресса и цивилизации джадиды связывали с реформой ислама. Опираясь на агрессивно-модернистское толкование ислама, джадиды утверждали, что «истинный ислам» предписывает мусульманам стремиться к прогрессу и, наоборот, только прогресс и цивилизация позволят мусульманам по-настоящему познать ислам. Однако политические ограничения способствовали тому, чтобы их реформаторский проект реализовался исключительно в области культуры и был направлен вовнутрь самого среднеазиатского общества. Последовательная критика культурных практик и заложенные в ней притязания на лидерство привели к возникновению довольно сильной оппозиции из числа представителей сложившихся социальных элит, которые были не согласны с такими результатами диагностики общественных недугов; тем не менее сам реформаторский проект и связанные с ним понятия и терминология стали в Средней Азии к 1917 году характерной чертой городской жизни. Представления о переменах восходили к мусульманскому пониманию современности, которое на рубеже XX века воодушевляло интеллектуалов всего мусульманского мира. Кроме того, идеи прогресса и цивилизации теснейшим образом связывались с идеей нации. Подобно некоему средоточию солидарности, которая должна была стать превыше понятий об идентичности и принадлежности, основанных на династии, линии родства и географической местности, понятие о нации (миллат) имело первостепенную значимость для интеллигенции в ее стремлении к современности. Это понятие заложило к тому же основу для притязаний на лидирующее положение в обществе и дало импульс к формированию в нем новой политики. И вот в результате революции именно этот проект стал более активным и радикальным. Страсть и энтузиазм джадидов вряд ли будут понятны, если не принимать во внимание трудности предреволюционного времени.
Для джадидов русская