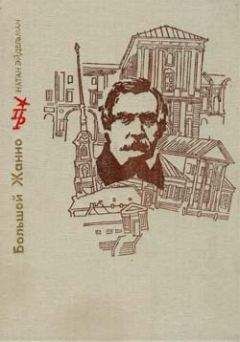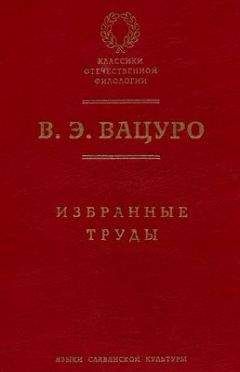На первый взгляд противоречия известным данным здесь нет: кажется, никто не сомневался в том, что Пушкин провел все оренбургские ночи у Перовского. Об этом писал еще П.В. Анненков: «19-го Сентября прибыл он в Оренбург. Там останавливался он, как мы слышали, в доме самого Генерал-Губернатора и вместе с В.Н. (sic!) Далем объехал Оренбургскую линию крепостей, ища везде преданий и свидетельства очевидцев»28. А ведь Анненков основывал свои данные на информации, полученной от Даля!..
Между тем как раз свидетельства Даля позволяют разрешить вопрос о местопребывании Пушкина в Оренбурге совершенно по-иному.
Первое свидетельство содержится в «Воспоминаниях о Пушкине», написанных Далем в 1840–1841 годах и введенных в широкий оборот Л.Н. Майковым в 1890-м. Со времен Майкова и до самого последнего времени текст очерка печатался в этом месте так: «Пушкин <…> остановился в загородном доме у военного губернатора В.Ал. Перовского, а на другой день перевез я его оттуда»29. Использованная Далем формула казалась позднейшим исследователям не вполне точной и затемняющей суть событий. Вот что замечает по этому поводу Д.Н. Соколов: «Утром же приехал Даль, и с ним Пушкин поехал сначала в город. Даль говорит, что он„перевез“ его туда, но это выражение неточное: заезжали они только не надолго, чтобы кое-что осмотреть и захватить с собою в Бёрды Артюхова»30.
Однако обращение к авторизованной писарской копии далевских воспоминаний позволило установить, что при публикации мемуарного очерка Даля Майков сделал в тексте вольный или невольный пропуск. В рукописи соответствующее место читается так: «Пушкин прибыл нежданный и нечаянный и остановился в загородном доме у в<оенн>ого губ<ернато>ра В.А. Перовского, а на следующий день перевез я его оттуда к себе…»31
Публикатор рукописи справедливо обращает внимание на важность этого уточнения. Однако нелишне заметить, что эту же подробность пребывания Пушкина в Оренбурге Даль отметил и в рассказе, записанном Бартеневым в январе 1860 года – том самом, о котором уже шла речь выше: «С Перовским Пушкин был на ты и приехал прямо к нему, но в доме генерал-губернатора поэту было не совсем ловко, и он перешел к Далю; обедать они ходили вместе к Перовскому»32.
В данном случае мемуарист, конечно, точен: не случайно он воспроизвел эту информацию дважды, с промежутком почти в двадцать лет – не только без изменений, но еще и со специальными разъяснениями смысла перемещений Пушкина. Памятливость Даля совершенно неудивительна: можно было забыть и перепутать что угодно, но единственная ночь, проведенная Пушкиным в доме мемуариста, несомненно, принадлежала к числу самых ярких и запоминающихся событий его жизни.
Итак, о чтении бутурлинского письма Пушкину в доме Перовского утром 20 сентября 1833 года речи быть не могло: это утро Пушкин встретил в доме у Даля.
К сказанному остается добавить: экстра-почта (как и обычная почта) отправлялась из Оренбурга по вторникам. (Этим и объясняется, между прочим, почему Пушкин пишет письмо жене ранним утром 19 сентября – это вторник, нужно было поспеть к почте. Так же объясняется, почему резолюция Перовского на официальном отношении Бутурлина наложена 23 октября: ответ должен был уйти в Нижний Новгород во вторник, 24 октября.) Приходила же почта в Оренбург по четвергам. 20 сентября 1833 года приходилось на среду. Почта, следовательно, прибыла в Оренбург только на следующий день после отъезда Пушкина…
Итак, ряд данных – документальных, мемуарных, исторических – позволяет заключить: письмо Бутурлина Перовскому о Пушкине-ревизоре не существовало и не могло существовать в природе.
Рассказанная Соллогубом и анонимным мемуаристом история о получении и чтении письма оренбургским военным губернатором в присутствии Пушкина – это, несомненно, деформированная история реального бутурлинского письма (пришедшего в Оренбург через месяц после отъезда Пушкина) – об учреждении над Пушкиным секретного надзора. В историях и с реальным, и с фиктивным письмом действуют одни и те же персонажи, действие развертывается на фоне одних и тех же декораций, обсуждается один и тот же герой. Смысловой сдвиг в изложении произошел на уровне сюжета, но этот сдвиг изменил реальную картину до неузнаваемости.
Как же могла произойти подобная деформация?
По всей вероятности, после кончины Николая Павловича (вряд ли раньше) в общество проникли какие-то сведения о настоящем письме Бутурлина, восходящие, видимо, к Далю. Зная, в какой туманно-обтекаемой форме сообщал Даль о бутурлинском письме даже Бартеневу, мы можем предположить, что исходившие от него сведения имели самый общий характер и были лишены каких-либо подробностей. В лучшем случае могло стать известно, что в каком-то «секретном письме» нижегородского военного губернатора высказывались подозрения насчет того, не преследовало ли путешествие Пушкина, помимо исторических разысканий, каких-то иных целей.
Эта скудная информация легла на благодатную почву.
В 1855 стало широко известно признание Гоголя о том, что «мысль Ревизора» принадлежит Пушкину33. Читательский интерес был подогрет: возникло естественное желание узнать, в чем же именно состояла эта «мысль».
Какие-то слухи о пушкинском происхождении сюжета «Ревизора» циркулировали давно. Видимо, к ним отсылает пояснение в мемуарах анонима, опубликованных Бартеневым: «Тогда Пушкину пришла идея написать Комедию: „Ревизор“. Он сообщил после об этом Гоголю, рассказывал несколько раз другим и собирался сам что-то написать в этом роде». К сообщению о пушкинских литературных планах и относится, вероятнее всего, помета мемуариста (ввергнувшая в соблазн последующих интерпретаторов): «Слышано от самого Пушкина». Сведения о пушкинских намерениях и планах (документально подтвержденных, повторим, лишь в XX веке), действительно, могли восходить только к Пушкину. Но реальная составляющая этих слухов не помнилась уже практически никем, что и неудивительно. Для поколения Пушкина П.П. Свиньин – неотъемлемая часть литературного ландшафта, носитель амплуа выдающегося враля, предмет постоянного вышучивания34. Для поколения, вступившего в свет в середине 30-х годов (а именно к нему принадлежали Соллогуб и, с большой долей вероятности, анонимный мемуарист) фигура Свиньина утратила актуальность: примечательно, что в мемуарном корпусе Соллогуба, где мелькают сотни имен, Свиньин не упомянут ни разу. Стоит напомнить также, что Бодянский после разговора с Гоголем о происхождении сюжета «Ревизора» наводил о Свиньине и его приключениях специальные справки; сообщение Гоголя его заинтриговало, но само по себе, видимо, мало что объяснило35. В памяти же мемуаристов, не склонных, в отличие от ученого Бодянского, к специальным разысканиям, история со Свиньиным совершенно не запечатлелась: имя его ничего им не говорило.
Напротив, слухи о «секретном письме» подсказывали напрашивающийся ответ на вопрос о роли Пушкина в создании «Ревизора»: ведь письмо – одна из пружин действия гоголевской комедии!.. Соответственно, слухи о бутурлинском письме начинают обрастать деталями, явно навеянными «Ревизором»: в рассказе о его содержании и об обстоятельствах его получения оказывается свернута почти вся комедия Гоголя – завязка («хозяин города» предупреждается конфиденциальным письмом о приезде инспектора из Петербурга), развитие действия (партикулярное лицо ошибочно идентифицируется как ревизор) и развязка (письмо читается в присутствии лица, о котором в письме говорится).
История насыщается историческими подробностями, создающими атмосферу достоверности. Но достоверность их иллюзорна: это не драгоценные свидетельства очевидца, а реалии (заимствованные из «предания» и даже печатных источников), специально подобранные так, чтобы увеличить правдоподобие анекдотического сюжета. Сюжет новеллы они действительно мотивируют, а вот с биографией Пушкина вступают в противоречие. К примеру, утверждение, что Пушкин прибыл в Оренбург прямо из Нижнего Новгорода, дает мотивировку опозданию письма Бутурлина. Но рассказчик анекдота не знает, что Пушкин в пути делал длительные остановки, а этот факт лишает мотив опоздания должной убедительности. Чтение письма происходит в доме Перовского, что соответствует доступной к тому времени информации, но опровергается документальными данными, которые станут доступны позднее, и т. п.
Наконец, «письмо Бутурлина» окрашивается – разумеется, независимо от намерений мемуаристов – элементами гоголевского стиля. В версии анонима письмо почти повторяет словесные обороты Андрея Ивановича Чмыхова: «Ему дано тайное поручение собирать сведения
о неисправностях. Вы знаете мое к Вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтобы вы осторожнее, и пр.». Ср. у Гоголя: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию… советую тебе взять предосторожность». Тон «письма Бутурлина» разве что одним регистром стилистически выше тона корреспондента городничего – и все же выше не настолько, чтобы за «и пр.» не ожидать сентенцию, подобную чмыховской: «Так как, я знаю, что за вами, как за всяким, водятся грешки, потому что вы человек умной и не любите пропускать того, что плывет в руки…»