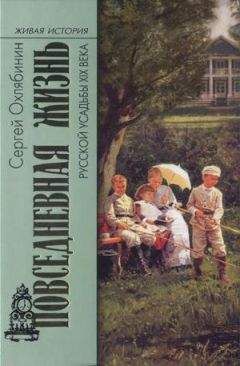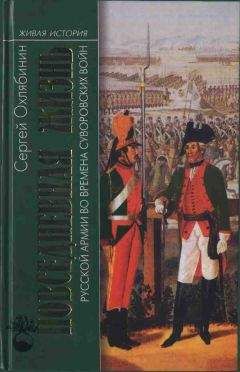Запятки были заняты лицом лакейского происхождения, в куртке из домашней пеструшки с небритой бородой, подернутой легкой проседью, — лицо, известное под именем "малого". Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будочника, который, подняв свою алебарду, закричал спросонья, что стало мочи: "Кто идет?!" Но, увидев, что никто не шел, а слышалось только издали дребезжанье, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошедши к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте. После чего, отставивши алебарду, опять заснул, по уставам своего рыцарства.
Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и притом, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавши несколько поворотов из улицы в улицу, наконец, поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви, Николы на Недотычках, и остановилась пред воротами дома протопопши. Из брички вылезла девка с платком на голове в телогрейке, и хватила обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине (малый в куртке из пеструшки был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки). Собаки залаяли, и ворота, разинувшись, наконец проглотили, хотя с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение.
Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами; из экипажа вылезла барыня: эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка» (Гоголь Н. В. Мертвые души).
«Он… не любил рессорных экипажей»
«…Овсяников придерживался старинных обычаев не из суеверия (душа в нем была довольно свободная), а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой, и сам правил своим добрым гнедым рысаком. (Он держал одних гнедых лошадей.) Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. <…>
— Как времена-то изменились! — заметил я.
— Да, да, — подтвердил Овсяников… — Ну, и то сказать: в старые-то годы дворяне живали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож: я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь.
— Вы были в Москве?
— Был, давно, очень давно. Мне вот теперь семьдесят третий год пошел, а в Москву я ездил на шестнадцатом году.
Овсяников вздохнул.
— Кого ж вы там видали?
— А многих вельмож видел — и всяк их видел; жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто: дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот, на Шаболовке. Вот был вельможа! Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд! Пока не знаешь его, не войдешь к нему — боишься точно, робеешь; а войдешь — словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся; и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет; и такой ласковый — противника утешит, коня его похвалит» (Тургенев И. С. Однодворец Овсяников).
«…И Владимир и Ермолай, оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.
— У Сучка есть дощаник[34], — заметил Владимир, — да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему.
— К кому? — спросил я.
— А здесь человек живет, прозвище ему Сучок.
Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал ему, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую, четырехугольную урну с следующими надписями: на одной стороне французскими буквами: "Ci — gît Théophile Henri vicomte de Blandy"; на другой: "Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия; родился 1737, умер 1799 года, всего жития его было 62 года", на третьей: "Мир его праху", а на четвертой:
"Под камнем сим лежит французский эмигрант:
Породу знатную имел он и талант,
Супругу и семью оплакав избиянну,
Покинул родину, тиранами попранну;
Российский страны достигнув берегов,
Обрел на старости гостеприимный кров;
Учил детей, родителей покоил…
Всевышний судия его здесь успокоил".
Приход Ермолая, Владимира и человека со странным прозвищем Сучок прервал мои размышления.
Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.
— Есть у вас лодка? — спросил я.
— Лодка есть, — отвечал он глухим и разбитым голосом, — да больно плоха.
— А что?
— Расклеилась; да из дырьев клепки повывалились.
— Велика беда! — подхватил Ермолай. — Паклей заткнуть можно.
— Известно, можно, — подтвердил Сучок.
— Да ты кто?
— Господский рыболов.
— Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?
— Да в нашей реке и рыбы-то нету.
— Рыба не любит ржавчины болотной, — с важностью заметил мой охотник.
— Ну, — сказал я Ермолаю, — поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей.
Ермолай ушел.
— А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем? — сказал я Владимиру.
— Бог милостив, — отвечал он. — Во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок.
— Да, он не глубок, — заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья: — да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины.
— Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет.
— Да кто ж на дощаниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду: у меня там есть шестик, — а то и лопатой можно.
— Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь, — сказал Владимир.
— Оно правда, что неловко.
Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел, для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повеся голову и сложив, по старой привычке, руки за спиной.
— Скажи, пожалуйста, — начал я, — давно ты здесь рыбаком?
— Седьмой год пошел, — отвечал он, встрепенувшись.
— А прежде чем ты занимался?
— Прежде ездил кучером.
— Кто ж тебя из кучеров разжаловал?
— А новая барыня.
— Какая барыня?
— А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимофевна, толстая такая… немолодая.
— С чего ж она вздумала тебя в рыболова произвести?
— А Бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего: не серчает… А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: "Ты чем был?" Говорю: "Кучером!" — "Кучером? Ну какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?.." С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. "Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке…" А как его содержать в порядке?
— Чьи же вы прежде были?
— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то вот я кучером и ездил… да не в городе — там у него другие были, а в деревне.
— И ты смолоду все был кучером?
— Какое все кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был, но не городским поваром, а так, в деревне.
— У кого ж ты был поваром?
— А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеича дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось.
— У кого купил?
— А у Татьяны Васильевны.
— У какой Татьяны Васильевны?
— А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым… то бишь под Карачевым, в девках… И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василья Семеныча. Она таки долгонько нами владела… годиков двадцать.
— Что ж, ты и у ней был поваром?
— Сперва точно был поваром, а то и в кофешенки[35] попал.
— Во что?
— В кофешенки.
— Это что за должность такая?
— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.
— Твое настоящее имя Кузьма?
— Кузьма.
— И ты все время был кофешенком?
— Нет, не все время: был и ахтером.