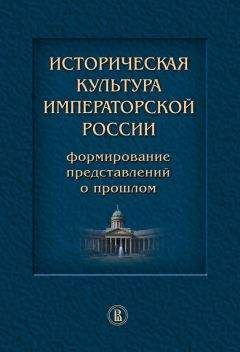Гюго воспел энтузиазм народа, втащившего статую вместе с пьедесталом на предназначенное место [345].
Реставрированная монархия была солидарна с народом. Людовик ХVIII захотел увидеть в песне «Да здравствует Генрих IV!» из популярной предреволюционной пьесы «Приключения Генриха IV на охоте» подобие национального гимна. А в Версале в 1817 г. появилось огромное полотно Ф. Жерара «Вступление Генриха IV в Париж 22 марта 1594 г.».
Попытка выстроить модель социального примирения на основе культа «доброго короля» не выдержала революционных пертурбаций ХIХ в. Более стойким образцом в национальном сознании оказалась религиозная политика. Макс Галло называет Наваррского «королем-основоположником», который «закладывал семена той французской исключительности, каковой является отделение Церкви от Государства». Открывавшая журнальную подборку материалов о Генрихе IV статья французского академика имела красноречивое название «Настоящий французский король». В это понятие включались не только королевские увлечения «настоящего француза» – балладный триптих «война, охота, женщины», но и способность возвыситься над междоусобной борьбой. «Генрих IV, король Божьей милостью, но также и в силу Разума, – пишет Галло, – поставил Францию выше фракционности» [346].
Если образ «славного короля Анри» в общем выдержал испытание временем, то его внук Людовик ХIV, для которого «Великий Генрих» был вначале образцом, оказался спустя века фигурой гораздо более противоречивой. Несомненно, безмерно возвеличенный своими современниками, Людовик ХIV и в исторической памяти французов остается не иначе как Великий Людовик, Король-Солнце и пр., а время его правления (1661 [347] – 1715) – как «великий век», самый замечательный период истории Старого порядка. Это историческое воплощение Французского величия, которое остается важнейшей идеологемой национального сознания.
И густая тень величия «века Людовика ХIV», пишут современные историки, прочно скрывает от обыденного сознания куда более прозаические и даже мрачные стороны этого правления [348]. Впрочем, слава славе рознь. У Генриха IV современная традиция выделяет стремление к диалогу со страной и ее жителями («я обращаюсь к вам как к французам»), от его внука самой знаменитой осталась апокрифическая фраза «Государство – это я». «Он никогда не сомневался, даже если не говорил этого, – пишет о Людовике ХIV Пьер Губер, – что государство – это он, что королевство – это он, что нация, как он внушил, не имеет физического существования во Франции и пребывает только в cамой особе короля» [349].
Людовик не только стремился творить историю, но и запечатлеть себя в ней, отмечал Робер Мандру. «Я вручаю вам самую драгоценную вещь на земле – мою славу», – объявил он представителям «ближнего круга» ученых и литераторов («малая Академия») [350]. «Выправить историю», – вот чего он требовал от своих придворных [351]. Больше всего королю хотелось, чтобы в будущем он ассоциировался с Величием Франции. Впервые мы сталкиваемся со столь продуманной, последовательной и масштабной «политикой величия». Король настойчиво навязывал стране и всему европейскому сообществу «абсолютистский дизайн» этого величия: «лучшая династия», «древнейшая монархия», «самая великая держава», «самая абсолютная власть» [352].
Этой цели служила наступательная внешняя политика: стремление утвердиться в качестве арбитра на континенте, вмешательство в дела Германии и Италии, завоевания в Нидерландах – все то, что вылилось в бесконечные войны с переменным и все уменьшавшимся успехом. Но было еще устроение королевских мануфактур, учреждение Академии наук и Королевской (ныне Национальной) библиотеки, покровительство искусствам.
Ведал разработкой «абсолютистского дизайна» крупнейший государственный деятель Кольбер. Как глава управления королевскими зданиями он, кроме их оформления, занимался церемониалом многочисленных празднеств. Кольбер опирался на «малую Академию» [353], в нее входили четыре члена Французской академии, которым поручалось составление надписей и девизов для памятников Людовику XIV и медалей, чеканившихся в его честь. Помимо конструирования королевского имиджа, те вели отбор выдающихся ученых и литераторов, которым предоставлялось королевское «пожалование». Даже комплектование фондов Королевской библиотеки, которое направлял тот же Кольбер, должно было угодить «любознательности короля (curiosités du roi)», становясь частью обширной идеологической программы абсолютистского государства. Вовлеченная в пропаганду правления сфера культуры оказывалась под высочайшим патронажем, ибо поощрение искусств и наук являлось привилегией и обязанностью монаршей особы, озабоченной своим «Величием».
Наиболее убедительным свидетельством величия короля и Франции и одновременно наиболее красноречивым выражением «абсолютистского дизайна» остался в веках Версальский ансамбль. Воздвигнутый, буквально «из топи блат», он (подобно Граду Св. Петра) явился королевской проекцией всей страны, прообразом или перспективой ее будущего. Как в замысле, так и в воплощении Версаль несет на себе отпечаток личности Людовика ХIV. «Большинство шедевров, которыми восхищаются в его дворце, обязаны своим происхождением его задумкам» [354], – свидетельствовал Расин. Испытывавший с детства основательные подозрения к Парижу король строил – в течение полувека усилиями 50 тыс. рабочих – новую столицу для своего королевства (Версаль и стал с 1682 г. фактической столицей Франции), и это, само по себе, явилось переломной вехой в развитии национальной государственности.
Уходила в прошлое «кочевая монархия», традиция постоянных перемещений королевского двора по территории королевства – «караван», по выражению историка, или даже «войско на марше» [355]. Генрих IV провел в поездках по стране 5597 дней, итого – 15 лет жизни верхом [356]. Случай чрезвычайный, но оттеняющий по контрасту переход к бюрократической монархии его внука.
Людовику ХIV больше не требовалось представлять себя жителям полусуверенных владений, он мог править не с коня, а со своего бюро, на котором собиралась необходимая информация и подписывались общеобязательные распоряжения. Бюрократическая (в том числе от бюро короля) монархия олицетворяла в самом буквальном смысле установленный порядок, и ему надлежало быть достойно представленным, т. е. прежде всего поражать воображение.
«Версаль, – утверждала Мартен, – поистине, квинтэссенция (résumé) Франции ХVII в.». Страна не ждала, что скажут в будущем, чтобы познать себя в творении Людовика ХIV. Все королевство выразило себя в нем. Кульминацией этого грандиозного ансамбля видится, говоря словами историка, «гармония могущественного порядка», порядка, сотворенного «победоносным королем» и ему подчиненного [357].
Идеи королевского творчества и полного господства над окружающим – природой, людьми, всем миром – важнейшие принципы королевского проекта устроения обиталища своего двора, который одновременно служил аппаратом управления. Если воплощенная в творческом гении короля как его «мистическое тело» нация выступает субъектом процесса, весь мир – его объектом. «Чудо» по образу творения, Версаль являл «конспект вселенной» по своему символическому смыслу [358].
Для обоснования нового масштаба королевского владычества потребовалось обращение к имперской традиции Древнего Рима, к героике древней Греции. При этом, однако, античность явилась лишь точкой отсчета. Уже в 60-х годах придворные литераторы стали внушать королю, что он «превосходит всех героев Плутарха», что любое сравнение с античностью будет недостойно его, что созвездие талантов, собранное им вокруг себя, не уступает выдающимся мужам античности и «даже превосходит» их.