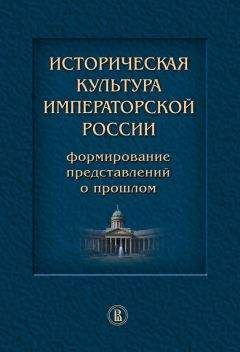основу будущего и силу нации» [367].
Выдвижение на первый план простых тружеников не понравилось приверженцам роялистской традиции, которые увидели в книге Губера попытку «отдать славу божественного правления от этого государя его подданным». «Он ничего не мог без них, – признают роялисты, – но без него они никогда не смогли бы сделать из Франции светоч Европы» [368].
При различных оценках Старого порядка вообще и абсолютизма в особенности во второй половине ХХ в. преобладает стремление восстановить историческую преемственность, разрушенную Революцией. Очевидно, что переход от «нации короля»» к Республике дался стране нелегко не только из-за насильственных форм, но потому в том числе, что это вносило новизну в понимание Нации как национального государства («нации-государства», в современных терминах).
В действительности, указывает современный историк, «слово Нация в нынешнем понимании есть изобретение Французской революции». В новой концепции воплотилась новая геополитическая реальность национального государства: «государство-нация-территория». Утвердилась «политическая идея нации». В качестве исторического нововведения она явилась, когда депутаты Генеральных Штатов провозгласили себя Национальным собранием, 21 июня 1789 г. [369]
Произошло превращение воплощавшего традицию вспомогательного института, который созывался по воле государя и имел ограниченные функции (распределение налогов), в неизвестный прежде представительный орган страны, аккумулирующий ее волю. По установившимся понятиям Генеральные Штаты передавали королю «пожелания» народа. «С пожеланиями можно было считаться, при необходимости частично их удовлетворять. Но если нация выражает не пожелания, а свою волю, ее можно лишь осуществлять» [370], – замечает современный историк Бернар Манен.
«Приход Нации» таким образом точно совпал с самим началом Революции – созывом Генеральных Штатов. «С того момента, – пишет Нора, – как они (депутаты. – А.Г.) отвергли название, которое существовало для них столетиями, и двинулись за пределы ограниченного круга вопросов, для рассмотрения которых они были созваны, произошел полный разрыв с тем, что народ уже летом начал именовать Старым порядком» [371].
Орган, избранный населением, которое выразило свою волю в наказах, составленных и записанных при избрании депутатов, был призван выработать основной закон государства. Национальное собрание стало воплощением государственного суверенитета, и его члены воспринимали этот суверенитет абсолютным, единым и неделимым, каким был суверенитет государя. Конституция 1791 г. провозглашала «единым и неделимым» Французское королевство, в 1792 г. «единой и неделимой» была признана Французская республика. Унитарная концепция нации была, таким образом, воспроизведением унитарной концепции монархии. Депутаты «неосознанно передали сакральность Единого в лице короля провозглашенному ими Единому в образе национального представительства» [372].
Для монархической традиции народ становится единым только в акте подчинения суверену. «Король – суверен, ибо государство… существует только в нем и через его индивидуальную личность… Воля всего народа воплощена в его воле». И для Руссо, отмечает Кейт Бейкер, множественность индивидов, составляющих нацию, может стать единством только в акте «полного и безоговорочного подчинения каждого одной единой персоне». Такой персоной у автора «Общественного договора» мыслилась абстрактная совокупность под названием «народ» [373]. В ходе Революции ее все более авторитарно воплощала революционная власть в виде высшего государственного органа, полномочия которого, подобно королевской власти, представлялись абсолютными.
Если король первоначально еще занимал в формуле суверенитета свое место, то значимость этого места быстро снижалась – c паритетного «Король. Нация. Закон» к подчиненному «глава исполнительной власти». Напротив, Нация занимала все более высокое место в формуле государственного суверенитета как обозначение или выражение этой самой «общей воли» народа, что и было закреплено в конечном счете понятием Республика – т. е. в переводе с латинского «общее (или общественное) дело».
Бурная активность депутатов Собрания и периодическое вмешательство в критических случаях разбуженных его деятельностью масс придали новому органу государственной власти первостепенное значение. Король как партнер Национального собрания в диалоге с Нацией был оттеснен на задний план, прежде чем устранен юридически, а затем и физически. Божественное право как принцип суверенитета вместе с самим королем решительно уступило место воле Нации. При этом немедленно встал вопрос об авторитетности новой власти для населения французской «глубинки».
Власть короля опиралась не только на обычай и традиционную религию. Она была наглядна и очевидна как персона короля. Национальная воля была абстракцией, мало доступной восприятию людей традиционного, в значительной степени еще бесписьменного общества. Понадобились особые знаки, символизирующие суверенитет Нации. И они быстро появились в большом многообразии, в котором ведущую роль стали играть: национальное трехцветное знамя, национальный гимн («Марсельеза») и триптих «Свобода. Равенство. Братство» как девиз французской нации. Ритуальное значение приобрели национальные праздники, начиная с Дня Бастилии.
Последовала форсированная сакрализация новых государственных символов и институтов, прежде всего самого национального представительства – Национального собрания и сменявших его высших органов государственной власти. Сакральное значение было придано основному государственному закону – Конституции. Легитимность учреждавшегося нового государственного порядка была закреплена введением такого института, как всенародное голосование – референдум. Первым в ряду стало одобрение Конституции 24 июня 1793 г.
В истории революционной драмы Мишле особо отметил один из новых праздников – День Федерации, который состоялся в первую годовщину взятия Бастилии и который, по мнению Мишле, явился апофеозом Революции. Историк, глубоко воспринимавший духовное содержание и символическое значение революционных событий, полагал, что праздничные лозунги, прославлявшие «единую и неделимую» страну, Братство и Федерацию, – наглядное подтверждение крайней озабоченности революционеров проблемой национального единства.
Движение, начавшееся с подготовки празднования Дня Федерации, вылилось в процесс, в ходе которого отдельные внутренние территории ликвидировали свои границы, чтобы воссоединиться и образовать единую нацию. «Чтобы очиститься от феодального наследия, отказались от провинций, так же как от кутюмов и парламентов, приняв систему департаментов… Новые образования окрестили исходя из природных топонимов, главным образом по названиям рек». Так, по словам Жака Веррьера, реализовывался «революционный идеал упразднения промежуточных органов между индивидом и государством» [374].
Более того, это означало, что перед лицом французского государства нет ни басков, ни бретонцев, ни нормандцев, ни провансальцев. Есть только граждане Франции. Унитарная концепция нации, в свою очередь, делала государство гарантом национального единства и освящала не только административную, но и языковую унификацию национальной территории.
К этому направлению революционного объединения нации в настоящее время приковано особое и весьма критичное внимание историков, ибо, по выражению Веррьера, то был «лингвистический империализм». Королевская власть не добивалась внедрения французского языка в повседневную жизнь. Согласно ордонансу Франциска I (Виллер-Коттре, 1539), французский язык – вернее парижский диалект, на котором говорили в Иль-де-Франс, утверждался как единственный официальный язык королевства в противовес другим территориальным диалектам и, в первую очередь, латыни. Однако речь шла лишь об административных и правовых актах, а также о судебной практике. Во время Революции французский язык стал политическим символом, языком революционных документов, Конституции,