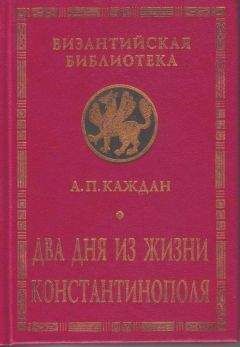Византийское художественное творчество не только отражало противоречивость бытия, но и само было внутренне противоречивым, амбивалентным. Византийские художники ощущали себя частицей величественной империи, избранного народа, наследниками эллинской цивилизации и римской государственности. Их творчество, парадное великолепие их храмов и мозаик, пышная игра риторики, торжественность церемоний — все это знаменовало богатство и всевластие константинопольских императоров. А вместе с тем они создавали особый мир — не мир, прямо отражающий действительность, но «дубликат» реального мира, построенный из земных элементов и вместе с тем отрицающий земные отношения. Играя словами, можно было бы сказать, что византийское искусство — до какой-то степени апофатическое искусство. Его торжественность, благолепие, рефлективность есть до известных пределов отражение-отрицание социальной неустойчивости византийского общества.
Никогда византийская общественная мысль не поднималась до требования социального переустройства мира. Она видела общественные пороки, но объясняла их причинами личными или случайными. Только искусство создало мир, принципиально отличный от действительного, мир, где царила упорядоченность и где человек, освобожденный в духе, беседовал как равный с Божеством. Мир искусства был в этом смысле подобием мира мистики: ведь и мистик, не претендуя на переустройство социальной действительности, возносился чувством к Богу, вырывался из земных связей и ставил себя в силу этого выше царей и вельмож.
Византийское искусство антропоморфно. Оно коренным образом отличается от искусства мусульманского мира, которое не оставляло места для человека. Конечно, герой византийских художников иной, нежели человек античной скульптуры или ренессансной живописи. И это понятно, ибо классическая Греция и ренессансная Италия жили горделивой иллюзией обретенного рая, тогда как византийский «рай» существовал лишь как дубликат действительности. Античность и Ренессанс могли подражать действительности, Византия и восхваляла действительность, и отвергала ее.
Человек вообще стоит в центре византийской системы мировоззрения. Он — микрокосм, крошечное подобие вселенной, сочетающее в себе основные начала мироздания — плоть и душу. Для него Бог создал землю и населил ее животными. Для него плодоносит нива и виноградник приносит свой благоухающий сок. Человек живет в центре вселенной, солнце и звезды совершают вокруг него свой ежедневный бег. Ради человека Бог посылает собственного Сына на землю, облекает Его человеческой плотью и обрекает испить горькую чашу страданий. Человеческие образы питают византийское искусство — от купола храма с его антропоморфным Пантократором и ангелами, от Богородицы с младенцем до изображений ктиторов, основателей и украсителей храма. Иконоборческая попытка лишить византийский храм человеческих изображений, доведя тем самым рефлективность богослужения до предела, оказалась столь же бесплодной, как и попытка драматизировать литургию.
При этом византийское искусство не просто человекоподобно, но и человечно. Ему принадлежит не только грозный Пантократор, царящий на куполе, претворенный и мифологизированный образ константинопольского василевса. Оно не только эстетически оформляет ритуал Большого дворца и вливается составным элементом в богослужение Св. Софии. Оно поэтизирует человеколюбие, сострадание, милосердие.
…На южных хорах Св. Софии находится композиция Деисуса, дошедшая до нас, к сожалению, в сильно поврежденном виде. На золотом фоне — ряды смальты всевозможных оттенков. Мягкие краски, спокойные позы, внутреннее достоинство персонажей, выраженное в плавности ниспадающих тканей, симметричности наклоненных к Христу голов Марии и Иоанна. Но за этой размеренностью и плавностью скрывается страдание и сострадание, равно и по-разному воплощенное в хрупкости лика Марии и в морщинистом, горбоносом, обрамленном спутанными волосами лице Крестителя. Их фигуры дышат достоинством, но это достоинство — в положении фигуры, в складках одежды, в атрибутах, тогда как лица пронизаны грустью. Пусть композиция стереотипна, как стереотипны и внешние черты героев, — но их человечность передана с невероятной силой.
И точно так же человечной и близкой предстает Мария на так называемой иконе Владимирской Богоматери (XII в.). В Византии было разработано несколько типов изображения Богоматери: оранта — с воздетыми к Спасителю руками, сидящая на троне, в сцене «умиления» — с младенцем, прижавшимся к ней щекой. Владимирская Богоматерь принадлежит к последнему типу и, таким образом, композиционно не содержит чего-либо нового; но ее прозрачное лицо, изображенное в условной манере (чуть намеченный, крохотный рот, тонкая линия носа, огромные глаза), исполнено безысходной скорби, подчеркнутой темно-оливковой красочной гаммой. И смотрит Богоматерь с иконы не на мудро-печального младенца, обнявшего ее крохотными ручками, но в открывающееся перед ней пространство, на жаждущего сострадания зрителя. Это уже не Афина, ставшая матерью, но человек — однако человек, радующий нас не совершенством плоти, но величием страждущего духа.
Достигшее совершенства в ритмической организации пространства, в орнаментальной плавности, византийское искусство комниновской эпохи в лучших своих образцах переходит за величественность орнаментализма. Если пользоваться словом «гуманизм» в очень широком его понимании, вырывая его из конкретно-исторического контекста эпохи Возрождения, может быть, мы вправе назвать византийское искусство самым «гуманистичным», самым человеколюбивым в Средние века. Мы начали наш анализ с сопоставления рассказа Никиты Хониата и Роберта де Клари. Различие между ними проявлялось, как мы помним, не только в том, что французский рыцарь пользовался феодальной терминологией, феодальными понятиями, привычными для него, — различие было более глубоким. Пожалуй, самым существенным можно считать эмоциональность, динамичность повествования Роберта, склонного к использованию прямой речи, к изображению стремительных действий — в отличие от Хониата, медлительного, рефлективного. Вряд ли имеет смысл рассуждать сейчас о преимуществах той или иной манеры — с того времени, как обе книги написаны, с начала XIII в., прошли столетия, и живое ощущение их языка давно потеряно, — но интересно и существенно, как в их сопоставлении, словно в капле воды, отражается именно то, что отличало в самом существе византийское художественное творчество от романского и готического. Для византийца, воспитанного на бесконечной торжественности литургических песнопений, на торжественном благолепии перекрытых куполом храмов, на уравновешенности мозаичных портретов, драматичность Роберта де Клари показалась бы непристойной, тогда как описательность и психологизм Хониата, со своей стороны, не тронули бы сердца западноевропейского средневекового читателя.
Два рассказа — два мира. Византийское художественное творчество (если рассматривать его в самом общем виде) обладало определенными особенностями, отличавшим его от эстетики западноевропейского Средневековья, — особенностями, которые, по всей видимости, были связаны с социальным и политическим укладом Империи ромеев. Все это так, но было бы ошибкой на этом основании полагать, будто византийское художественное творчество складывалось как абсолютно единообразное, будто стереотипичность мышления и эстетического идеала окончательно подавляла авторскую индивидуальность. Спору нет, традиционность составляла одну из существеннейших черт мировоззрения ромеев. Уверенные в своем избранничестве, гордые своим прошлым, убежденные в том, что искусство предназначено к познанию высших, неподвижных, абсолютных сущностей, ромеи сознательно ориентировались на повторение образцов. Но художественное творчество, выражая господствовавшие в обществе воззрения, не могло по самой своей природе ограничиться только этим.
Несмотря на колоссальное влияние Константинополя, во многом определявшего художественные вкусы всего государства, в провинции создавались свои направления и школы, формировались собственные, локальные традиции. Разные общественные группировки, обладавшие собственным мировоззрением, естественно, находили для его воплощения особые художественные формы. Наконец, в художественном творчестве неминуемо должна была отразиться авторская личность, авторская индивидуальность, тесно связанная, разумеется, с идеологией той социальной группировки, к которой принадлежал художник.
Социальное лицо и творческая индивидуальность мастера значительно отчетливее обнаруживались в литературе, чем в изобразительном искусстве. Создатели византийских храмов, мозаик, икон, не говоря уже о мелкой пластике, — для нас в своем большинстве анонимы, ни жизненный, ни творческий путь которых мы не в состоянии восстановить. Лишь с помощью гипотез и натяжек можно допустить существование локальных школ и направлений — искания, помыслы и терзания византийских Ботичелли и Микельанджело закрыты от пытливого будущего заговорщическим молчанием источников.