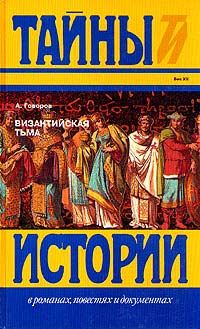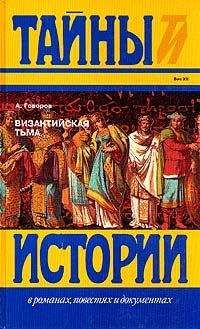«С кого снял, одноглазая рожа?» — подумала Теотоки. Ничто все-таки ее не радовало, ничто не интересовало. Но пират, предчувствуя такой поворот сюжета, принялся ей рассказывать о каждой иконке в отдельности, каким стилем изготовлена, в какой технике, в каком монастыре, и выказал себя замечательным знатоком этого ремесла.
Пришлось сервировать чай — китайский напиток уже тогда пришел в Византию.
За столом говорили обо всякой всячине, о столичных новостях и коснулись невзначай врача, или прорицателя, Дионисия, который прилетел с того света.
Маврозум усмехнулся, спросив: это тот, что ли, которого не стали кушать львы? Но пожал плечами и заявил, что ничего более про него не знает.
Тогда, извинившись, в разговор господ вступил Костаки, сидевший на подушечке у входной двери, и сообщил, что, по его сведениям, чародей Сикидит на днях отправил его обратно, на тот самый свет, откуда и вызывал.
И — о, сердце женщины! Когда Теотоки уверилась в том, что Денис отнюдь не изменил ей с другой женщиной, не находится в плену у злой царевны, не живет где-нибудь в другом государстве, забыв о ней и благоденствуя, — ей стало неизмеримо легче. Пусть он заброшен в чудовищное пространство, пусть он даже расщеплен, распластан во времени, пусть! У Теотоки осталась о нем светлая грусть и благодарная память. Она вспомнила поговорочку, которую слышала от него: «Жить-то как-то надо!»
А пират набрался дерзости до того, что предлагал ей быстроходную галеру бежать куда-нибудь на Принцевы острова. «Ты забываешь, раб, — сказала она твердо, — из какого я рода». И бедный Маврозум, а с ним и втайне торжествующий Костаки были изгнаны.
Пришла трепетная Ира, все ей хотелось знать, обо всем говорить, Теотоки же она показалась обыкновенной трескушкой. Дениса она безоговорочно считала любовником Теотоки и на словах сочувствовала, что та вынуждена выйти за нелюбимого. Маруха? Ира цокала языком: ходят слухи, что кесарисса просто убивает, умерщвляет мужчин, которые кажутся ей красавцами. Растравила вновь несчастную Теотоки, а потом заплакала:
— Ах, Токи, у тебя хоть кто-то есть, хоть кто-то, кого ты любишь… Какая ты счастливая! А я? Вечно одинока, вечно сама с собой…
— А Ангелочек?
— Ой, Токи, о ком ты говоришь!
Вытерла носик и глазки, прошмыгалась и объявила, что приехала прощаться — отсылают в Пафлагонию к отцу. Родители-то ее, как известно, то вместе живут, то не живут… Ее, Эйрини, вместе с младшей сестрой Фией держали в монастырях, воспитывали.
— Сколько я помню, — удивилась Теотоки, — шла речь, чтобы вам не встречаться с отцом.
— Видимо, теперь кому-то это надо.
— Не знаю, как теперь будем видеться. Говорят, Врана и Андроник — злейшие враги…
Девушки постояли лицом к лицу, держась за локти друг друга, молчали или молились, каждая о своем. Теотоки вспомнился образ «Встреча Марии и Елизаветы».
В знак полного обретения душевного равновесия распорядилась принести попугая и стала собственноручно чистить клетку. Исак был грустный, вздыхал, как старичок:
— Кошмар-р! Кошмар-р! Все пр-ропало!
— Да что ты! — возражала Теотоки. — Что ты, Исак? Все у нас впереди.
Но он мигал подслеповатыми глазками и безнадежно повторял:
— Кр-рах! Кр-рах! Кр-рах!
За чисткой попугаячьего жилища ее застал Никита-историк. К Теотоки в принципе никого не пускали, он ухитрился сэкономить на своих книжках золотую монетку и всучить ее красавице Хрисе.
Теотоки была очень рада ему. Он внушал спокойствие, мир, такой благообразный, мудрый человек, хотя совсем молодой.
— Я слышала, вы тоже просватаны, за Анну Вальсамону, племянницу великого логофета… Поздравляю вас, Никита.
— Невеста моя еще в куколки играет, — усмехнулся он. — Это мой братец расстарался, сам-то он, вы знаете, монах. Но помнит, в какой бедности и унижении прошло наше с ним детство, хочет сделать мне быструю карьеру.
Прощаясь, любовно дотронулся до ее руки, заглянул своим ясным взглядом.
— Не сердитесь. Токи. Я сразу угадал, что вы не по своей воле идете. Вы самая прекрасная, самая умная, самая трогательная из женщин, которых я когда-либо знал. Если когда-нибудь только…
Она отобрала руку и сказала жестко:
— Я всегда все делаю только по своей воле.
Власти предержащие не решились сломать тысячелетний обычай, то есть литургию обручения назначить в Святой Софии — матери всех церквей. Святая София есть храм только для первых трех иерархических классов — императоры (василевсы, кесари, кесариссы), священные особы (севасты, августы), государи (принцы, деспоты, князья). Оба же ныне обручающиеся были, мягко говоря, не вполне римского происхождения. Он, хотя и Комнин по фамилии, был сын вольноотпущенника, она хоть и из Ангелов, но тоже какая-то незаконнорожденная.
Никита Акоминат, когда ему рассказали об этом, нашел, что здесь отразилась вся двусмысленность нынешнего правительства. С одной стороны, оно выдвинуто вполне демократическим переворотом венетов, с другой — смертельно этой цирковой демократии боится. С одного конца вроде бы создано вмешательством армии, с другого конца спит и видит, как бы эту армию поставить на место.
Обменяться мыслями ему было недосуг, потому что в данный момент он шествовал в церемонии прямо за невестой и держал кончик длиннейшего лора, усыпанного алмазами. За изготовление только одного этого лора благороднейшая Ангелисса заложила лучшую из своих мельниц.
И еще Никита думал о народе, который запрудил улицы и площади, приветствуя шествующих обручников кликом, который мог сорвать солнце с небес. Давно ли те же римляне, в латаных-перелатаных одеждах, с сумками для бесплатных раздач на боку, тем же кличем грозили сжечь дворцы народных любимцев?
Торжество было назначено на день отданья Воздвижения, когда нет уж поста на столе, ни трудов уже нет в поле. Красная листва дубов и кленов осыпалась и хрустела под ногами шествия, которое направлялось к церкви Косьмы и Дамиана, приходского храма Манефы Ангелиссы. На фоне желтизны лиственных парков темная зелень кипарисовых аллей напоминала о вечности.
Патрикии в шафрановых далматиках и роскошных мантиях, расшитых единорогами и львами, предшествовали идущим в Дафну новобрачным. Величественные старцы мерно ударяли посохами в пол. Никита за невестой передвигался куриным шагом и от нечего делать занимал свои мозги размышлениями о том, как склонны византийцы ко всякого рода процессиям и церемониям. Дров наколоть не умеет, а где повернуть, да где вывернуть или где замедлить шаг — это он дока. Каждую маленькую церковку открывают и закрывают по дважды в день с уставными поклонами да обходами…
— Если б не императорский двор, на какие б деньги поставили себе дворец в предместьях всякие мудреные церемониймейстеры и красильщики тканей, ювелиры и резчики слоновой кости?..
Затем фантазия его понеслась в тропические моря далекой Индии, где рабы-ныряльщики для византийских царей добывают редкостный жемчуг и сами становятся пищей акул… А рабы-поденщики на далеком острове Аустралис…
Никита с разгону чуть не ударился в спину невесты, потому что шествие внезапно затормозилось — церемониймейстеры устанавливали в его середине высокопоставленных военных, которых в обычный порядок процессии добавляли из уважения к жениху.
«А кстати, — подумал Никита. — Куда девался этот симпатичный Дионисий, о котором ходили всякие легенды, будто он царя вылечил, будто он с того света прилетел?.. Он ведь, кажется, был в форме офицера императорской тагмы? У нас все так: все кричат, все болтают, но узнать ничего решительно невозможно!»
В это же время невеста, шествуя под бременем всяческих нарядов и украшений, тоже несколько успокоившись, думала о своем. Она думала, конечно, о будущем муже. Сквозь двойную фату сбоку она видела его горбоносый профиль, оправдывавший его родовое имя Врана — Ворон, чем-то похожий и на гордые бюсты древнеримских полководцев. «Неужели ему почти семьдесят? У него же и морщин нет на лице. Какая мужественная складка у бровей!»
Ей много успели нарассказать о женихе. Она знала, что у своего отца он был под командой, служил простым весельщиком на военном дромосе. А отец был вначале военнопленным, заслужил свободу и честь ревностной службой.
И чем-то напомнил ей заслуженную боевую лошадь, которая и везет и везет, даже и ранения имеет, а все добротой и надежностью привлекает к себе. Вспомнила, как она отметила про себя: он подает команды тихим «голосом, а они исполняются мгновенно!
«Ипа!» — шепнула она, непроизвольно подумав, что ведь придется как-то мужа звать в интимной обстановке. «Ипа» — это уменьшительное от «гиппос» — конь, на простонародном диалекте.
И он услышал ее и тоже скосил взгляд вниз, пытаясь взглянуть ей в лицо. Но тотчас послышалось шипение этериарха, ответственного за церемонии: «Всесветлый, не шевелитесь, все римляне смотрят только на вас…»