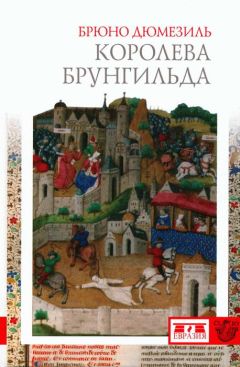Хотя внешне дело выглядит так, будто элегия Галсвинте была написана автором по собственному побуждению, эта видимость не должна скрывать заказного характера поэмы. Италиец Фортунат сам не взялся бы за столь щекотливую тему, к тому же столь близко затрагивающую меровингскую династию. Пусть заказчик нигде не назван по имени, первые стихи поэмы почти не оставляют сомнения в его личности:
«Толедо послал тебе две башни, о Галлия: если первая стоит, то вторая лежит на земле, разбитая. Она возвышалась на холмах, блистая на прекрасной вершине, и враждебные ветры повергли ее и разрушили»{255}.
Этой «первой башней», еще целой, естественно, была Брунгильда, жена Сигиберта, чьим рупором и выступал Фортунат. Что касается адресата, вскоре становится ясным, что это Гоисвинта, вдова Атанагильда и мать Галсвинты и Брунгильды. Таким образом, поэма выдержана в интимистском духе, и она воздействует тем сильней, что выраженные чувства остаются нежными, простыми и женскими: дочь обращается к сокрушенной матери. Тем не менее не станем усматривать здесь сентиментальность. Всего через несколько месяцев после утраты супруга Гоисвинта вышла за нового короля вестготов Леовигильда. Несмотря на обманчивую форму, элегия Галсвинте представляла собой официальное соболезнование, направленное австразийским двором испанскому. Перед нами текст дипломатического характера, и анализировать его надо прежде всего в этом качестве.
Сразу же становится понятно, что поэма написана не ради информации. За Пиренеями уже было известно об убийстве Галсвинты, как и о его обстоятельствах. Говоря о покойной, уже знали, что с ней произошло, чем объясняются многочисленные приемы, использованные в элегии. Так, вместо того чтобы начать со смерти монархини, Фортунат открывает поэму рассказом о свадьбе Галсвинты. Словно бы мы имеем дело с новой редакцией свадебной песни 566 г., но тональность изменилась. Сообщение о браке испанский двор воспринимает драматически. Весь Толедо оглашается стенаниями, и следует душераздирающая сцена прощания Гоисвинты с дочерью. Поэма развивает здесь тему, близкую скорей Брунгильде, — тему многочисленных материнских страданий: родов, а потом потери дочери, выходящей за чужеземца{256}. Этот двойной разрыв подготавливает здесь третье и окончательное расставание — смерть любимого ребенка.
Под пером Фортуната свадебное путешествие Галсвинты скоро превращается в долгий крестный путь. Даже свадьба не приносит радости: над сценой порхает Купидон, но его стрелы — ледяные{257}. Однако в этом повинна не Галсвинта, которая в описании наделена всеми добродетелями. Фортунат, встречавший королеву в Пуатье, считает нужным засвидетельствовать: она была щедра к бедным, и все ее любили. Она даже снискала дружбу Радегунды, королевы-затворницы, игравшей для Меровингов роль морального авторитета{258}. Более того, франкские воины поклялись ей в верности на своем оружии{259}. Какие воины? Вероятно, из тех многочисленных аквитанских городов, государыней и властительницей которых она была за счет утреннего дара. Естественно, Фортунат не призывал этих воинов соблюсти свою присягу и отомстить за смерть. Жанр такого не предполагал. Но читатели или слушатели не могли не сделать из текста вывод, который напрашивался.
Высшая виртуозность Фортуната проявилась в том, что он не назвал убийцу по имени. Смерть Галсвинты описана в нескольких кратких словах: «На нее обрушилось несчастье: пораженная громом, она изнемогла, ее взор поблек, она угасла»{260}. Мадам умирает, Мадам умерла[56]… Ничто не наводит на мысль, что речь идет об убийстве. Впрочем, официально никакого убийства и не было. Однако в поэме весь двор проливает слезы при вести о кончине, за странным исключением мужа. Можно также отметить, что ошеломленная кормилица Галсвинты просит, если можно, отправить ее в Испанию, чтобы оповестить Гоисвинту. Получается, кто-то этому помешал? Далее Фортунат описывает похороны молодой королевы, сопровождаемые всеобщими стенаниями. Присутствует сам Бог, поскольку являет чудо: лампада, подвешенная над гробницей, падает на пол и не разбивается{261}. Через несколько лет Григорий Турский, агиограф из которого получался лучше, чем поэт, добавил чудес: по его словам, светильник вошел в каменные плиты, как в воск{262}. Фортунат предпочел изящество: лампада, брошенная наземь, остается цела — этого достаточно, чтобы удостоверить полную невинность пострадавшей покойницы. Ведь читатель должен был проникнуться убеждением: похоронили женщину блаженную, почти святую. О Хильперике, странным образом отсутствующем на похоронах, Фортунат так и не скажет ни слова. Такое молчание можно назвать оглушительным.
Далее автор элегии останавливается на описании душераздирающей скорби Брунгильды при вести о смерти Галсвинты. Крикам королевы вторит только природа:
Повсюду, где она [Брунгильда] проходит, она поражает звезды своим плачем. Она часто выкрикивает твое имя, Галсвинта, твое, ее сестра. Его повторяют родники, леса, реки, поля. Ты молчишь, Галсвинта? Ответь своей сестре, как отвечает ей все безмолвное — камни, горы, леса, воды, небо!
Брунгильда даже упрекает себя, что способствовала приезду сестры в Галлию. Если, судя по всему, поэма была рассчитана в основном на испанских читателей, это странное утверждение можно понять так: хоть Брунгильда и стала женой Сигиберта, она продолжала содействовать вестготской дипломатии, упростив соединение сестры и деверя. Если брать шире, такое двойное бракосочетание двух братьев с двумя сестрами должно было пойти на благо миру во франкском мире: если Брунгильда хлопотала ради брака Галсвинты, значит, Сигиберт испытывал симпатию к Хильперику. На самом деле ничто не позволяет всерьез полагать, что Брунгильда каким бы то ни было образом помогла Хильперику получить руку испанской принцессы — настолько явно этот брак шел во вред австразийским интересам.
Фортунату нет до этого дела. Внезапно он стал воображать, как эту весть восприняли в Испании. Горе Гоисвинты очевидно. Тахо, по словам поэта, подхватывает ее стенания, и их отголосок отдается до самого Рейна. По ходу чтения стиха читатель незаметно для себя проникается мыслью, что союз обеих рек, обоих народов, может быть, позволил бы отомстить за это убийство. Однако элегия уже близится к концу, а ее тональность остается чрезвычайно мирной. На миг автор возвращается к чуду с лампадой, явному знаку спасения покойной. Фортунату удается мельком заметить, что ничего удивительного в этом нет, ведь монархиня была «принята в лоно церкви», то есть отреклась от арианства и приняла католичество. Великая скорбь и далеко идущие дипломатические планы не исключали толики конфессиональной полемики. Но важно было указать на духовное спасение монархини, славной покойницы, которую, следовательно, уже незачем оплакивать. Читателю еще раз ненавязчиво повторили контрапункт произведения: невинность, претерпевшая мученичество, делает поступок убийцы еще более отвратительным.
В заключительной части содержится последнее ударное место поэмы: «И у вас, ее матери, по милости Бога-Громовержца, также есть утешение в лице вашей дочери, вашего зятя, вашей внучки, вашего внука и вашего мужа»{263}. В самом деле, Гоисвинта могла рассчитывать на сочувствие Брунгильды и Сигиберта, а также их юных детей Ингунды и Хильдеберта II. Она также могла надеяться на поддержку нового мужа, короля Леовигильда. К этой моральной поддержке вполне могла добавиться военная: если бы Гоисвинта решила отомстить убийце Галсвинты, она должна была знать, что у нее будут союзники в Галлии, как и в Испании. И «Бог-Громовержец», Бог гнева из Ветхого Завета, поможет поразить виновного громом.
Цена крови: внешняя демонстрация
Совершенство произведения Фортуната — сложнейшая ловушка. В самом деле, поэма допускает несколько уровней прочтения, из которых мы видели два первых: элегию, по видимости отрешенную от политических вопросов, за которой спрятан — но довольно хорошо заметен — призыв к военному союзу между Австразией и вестготской Испанией против Нейстрии Хильперика. Но, несомненно, ограничиться этой интерпретацией было бы опасно.
Во-первых, сколь бы изощренной ни была демонстрация чувств, совершенная Фортунатом, об истинных чувствах Брунгильды мы не знаем ничего. Ее скорбь, вероятно, была искренней. Тем не менее Григорий Турский не упоминает о какой-либо ее резкой реакции на известие о смерти сестры. Это тем примечательней, что наш хронист не осуждал жажду мести, когда ее испытывает королева и даже святая: так, он в хвалебном тоне рассказывал, как блаженная Хродехильда некогда пыталась поразить убийцу своих родителей{264}. Один только Герман Парижский упомянул через несколько лет гнев (furor) Брунгильды, не желавшей предоставить поступок Хильперика суду Божьему. И тот же Герман признавал, что, может быть, этот гнев всего лишь придумала народная молва{265}.