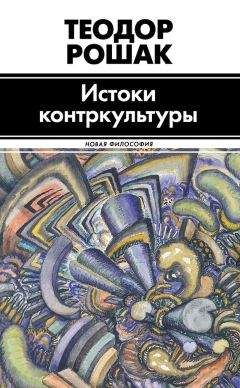«Коммуны» Гудмена (его первый крупный социальный манифест, написанный в 1947 году в соавторстве с братом Персивалем, архитектором) – его лучшее исследование городского планирования для послевоенной Америки, и не оттого, что Гудмен требует рассматривать городские проблемы как часть национальной экономики, а потому, что дух художественного творчества присутствует в повествовании от начала до конца. В книге есть остроумие, сатира, сила живого воображения. Только романист мог описать близящееся безумие послевоенного изобилия, как это сделал Гудмен в своем «Городе эффективного потребления»: в конце каждого года в колоссальном универмаге горожане-покупатели устраивают Вальпургиеву ночь мятежа и разрушения, уничтожая товары, чтобы справиться с перенасыщением экономики. Город, возникший на страницах «Коммун», – не обезличенная амальгама технических подробностей вроде стоимости недвижимости, контроля трафика, коммунальных услуг, зонирования обязанностей и тому подобного, а сцена, на которой разворачивается человеческая драма, «хореография общества в движении и покое». Город для Гудмена декорация, на фоне которой люди кажутся преувеличенно большими и важными в своем хаотичном, сложном поиске органической и духовной самореализации. Таков город, каким его видит писатель: в первую очередь – жизнь. Таким Бальзак видел Париж, Джойс Дублин, а Диккенс Лондон. Мы сразу понимаем, что в отличие от общества, о котором пишет Гудмен, в нашем обществе «городским планированием» называется рядовое техническое усовершенствование. В отсутствие утопического видения Гудмена у нас нет «города» и нет «планирования», есть только неумелые бюрократические переделки разваливающегося статус-кво.
В летаргической послевоенной Америке теоретик-утопист неизбежно находит свою аудиторию среди молодых диссидентов: именно молодежь, с отчаянным желанием сохранить в безумной обстановке здравый рассудок, жаждет живых альтернатив. Конечно, глубина и сложность мысли Гудмена заслуживает более зрелой аудитории, но где ее взять? В октябре 1967 года Гудмена по странной игре судьбы пригласили выступить с обращением к конференции промышленной ассоциации национальной безопасности, зрелой, властной структуры милитаризированного государства, официального оплота консенсуса американского среднего класса в вопросах «холодной войны», гонки вооружений и безудержного насаждения технократических интересов. Участники конференции, занимающие ответственные посты взрослые люди, щедро наделенные властью и сокровищами нации, должны были принять слова Гудмена всерьез, как тему для дискуссии, даже если бы он предложил ассоциации как можно скорее прекратить свое существование. Но они этого, разумеется, не сделали, и Гудмен прекрасно знал, что не сделают. Поэтому он не обращался к ним напрямую и не говорил для участников конференции. И когда он подошел к заключению: «…мы считаем… [ваш] образ жизни ненужным, уродливым и неамериканским… Мы не можем потакать вашим сегодняшним операциям. Вы должны быть стерты с доски», из зала закричали: «Кто такие “мы”?» Гудмен ответил: «Мы – это я и несколько человек извне». Кто же эти «люди извне», для которых ведущий социальный теоретик страны принял на себя роль докладчика? Это была группа студентов колледжа, которых Гудмен пригласил пикетировать аудиторию во время презентации[189].
Снова и снова Гудмен сокрушался, что силу общественного голоса ему дают «сумасшедшие молодые союзники». Стоит ему заговорить, как всем кажется – где-то рядом находится группа молодежи, уже наносящая его слова на знамена.
Но не только утопизм Гудмена сделал его главным трибуном молодежной контркультуры. «Безумная Ирландия, – сказал Оден о Йитсе[190], – уязвила его в поэзию». Безумная Америка уязвила поэта Гудмена не просто в политический анализ, но в политический активизм. Критика Гудмена, как и критика Ч. Райта Миллса, выпаливается с настоятельным требованием «что-то сделать» с засильем проблем. Его утопизм становится условием истинного прагматизма, начала реального проекта. Настойчивое стремление повенчать действие с идеей не только завоевало ему преданность молодых радикалов, но и подействовало как необходимая дисциплина на бездумную беспечность, которая все больше овладевала молодежью. Активное молодежное сопротивление со своей речью и мыслью, с желанием продолжать пикеты, ходить на демонстрации и устраивать сидячие забастовки – все это враждебная реакция на академизм многих социальных критиков, которые, несмотря на сплин, довольствовались хорошим анализом и парой язвительных замечаний.
Гудмен, в отличие от них, служит примером интеллектуала, в котором точная, даже ученая мысль сочетается с радикальным действием. Он доказал, что это тонкое равновесие можно достойно сохранять. В своем эссе в начале шестидесятых о «Неэффективности некоторых умных людей» Гудмен вводит фразу «практический силлогизм» для иллюстрации интеллектуального паралича того времени. «Мне нужен Икс», – говорит ученый критик и путем анализа приходит к заключению: «Вот он Икс». Так возьмите его, настаивает Гудмен, и используйте[191]. Хотите «общую забастовку с требованием мира»? Во время такой забастовки в 1961 г. Гудмен был на улице у Рэндом-Хаус, пикетировал собственного издателя. Хотите университеты новой формации? Очень хорошо: в «Коммуне ученых» Гудмен заканчивает критику высшего образования призывом к массовому уходу из университетов и учреждению новых, диссидентских академий – к «чему-то», что можно сделать сейчас. С этого момента в вузах начался отток студентов, уходивших в свободные университеты, возникавшие по всей стране. Гудмен, находясь рядом с одним из лучших в стране государственным «Экспериментальным колледжем» в Сан-Франциско, предложил год прожить при университете. Совсем недавно он был среди тех, кто, как доктор Спок, жертвовал собственным состоянием и честью в пользу студентов-уклонистов, не желавших идти в армию. Польза от деятельности Гудмена неоценимо велика, поскольку основные ценности интеллекта надо защищать перед диссидентской молодежью, которая жаждет действия и неинтеллектуальных форм сознания, и эта задача по силам интеллектуалам, которые доказали, что мысль не только «академична», но и может сопутствовать принципиальной деятельности.
Есть и еще одна причина популярности Гудмена среди молодежи. Как мы знаем, контркультура – весьма ограниченный рынок для старых левых идеологий с их апеллированием к метафизике классового конфликта и реорганизацией общественных институтов в качестве основной цели. Увлечение молодых экзотической религией и наркотиками свидетельствует о поиске новой основы, на которую могла бы опереться программа радикальных общественных перемен. Поэтому социологию значительно потеснили с ее позиций в пользу психологии как основного генеративного принципа революции. И здесь снова Гудмен сделал бесспорно значительный вклад.
В 1951 году, задолго до того, как сделаться успешным социальным критиком, Гудмен написал обширный теоретический раздел для учебника «Гештальт-терапия»[192]. Это наименее читаемое из его произведений, ибо требует больших затрат сил, но, пожалуй, самое важное. Стиль мышления Гудмена не менее выражен в его деятельности гештальт-терапевта, чем в его романах. Именно гештальт-психология дала основу всем «системам», которую можно найти в размышлениях Гудмена.
Трудно дать исчерпывающий анализ гештальт-психологии в рамках этой главы. И в теории, и на практике она остается одной из самых противоречивых школ постфрейдистской психотерапии – должно быть, потому, что она упорно пытается соединить традицию психоанализа с чувствительностью восточного мистицизма, а это потруднее, чем смешать масло с водой. Я попытаюсь обрисовать четыре основные характеристики гештальт-терапии, которые, как принято считать, проходят через все творчество Гудмена и считаются теми первыми принципами, к которым движется контркультура.
(1) Во-первых, мистический «холизм», который гештальт-терапия взяла от гештальт-теории восприятия. Для гештальтистов восприятие – это не отдельные впечатления, отпечатанные «объективным» миром на пассивном воске чувств, а упорядоченные целостные явления, создаваемые странным и прекрасным сотрудничеством воспринимающего и воспринимаемого. Обобщая представление о жизни как о едином целом, последователи гештальт-терапии говорят о взаимном обмене между организмом и его окружением, которое обладает такой же необъяснимой спонтанностью и саморегуляцией, как и процесс восприятия. Как визуальные образы рисуются совместно видящим и видимым, так и организм и окружение понимаются как пребывающие в постоянном естественном диалоге, в непрерывном «творческом изменении», которое позволяет человеку чувствовать себя как дома в своем теле, сообществе, естественной среде обитания.