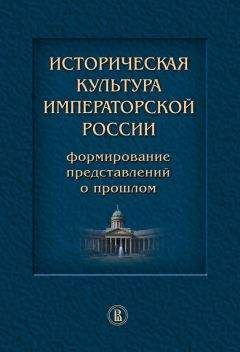выражением самой Нации.
При таком восприятии торжествовал специфический подход к политическому расколу страны: «Революция говорит по-французски, ее враги – на местных языках». Так заявлял Барер с трибуны Конвента 27 января 1794 г.: «Федерализм и предрассудки говорят на нижне-бретонском, эмиграция и ненависть к Республике – по-немецки, фанатизм – на басском». А в июне того же года в докладе аббата Грегуара подчеркивалась необходимость искоренения патуа, поскольку они препятствуют победе Революции [375]. Достижение языкового единства выпало уже на школу Третьей республики.
Именно на пути к национальному единству революционеров ждало самое серьезное испытание: и не только из-за захлестнувшей их стихии социального возмездия – они стали жертвами идей, которыми руководствовались. Как пишет Сюзан Ситрон, революционеры настолько были поглощены «отстаиванием своего принципа единства», что с самыми лучшими намерениями превратили его в догму, обнажив «религиозную» природу своего мышления. Из представления, что истина может быть только одна, следовала «неспособность мыслить о множественности», об альтернативности, «священный ужас перед разнообразием». Так, представление о нации и о ее единстве приобретало «манихейский оттенок» [376] – нация и ее враги.
С первых дней Революции понятие Нации приобрело политическое значение, став чем-то вроде пароля, по которому устанавливали «своих», тех, кто принадлежит к «народу», к «патриотам», а не к «аристократам». Формула Сийеса (памфлет «Что такое третье сословие?»), объявлявшая непривилегированных «ВСЕМ», Нацией в ее целокупности, ставила под вопрос национальную идентичность двух других сословий. Им оставалось «раствориться» в революционной нации, утратив свои привилегии, статус и самое идентичность, чего они отнюдь не спешили делать.
Наследием Революции оказалась, говоря словами Нора, «двойственность национальной идентичности». «Франция включает в себя, – утверждает академик, – …две полноценные нации, каждая из которых может претендовать на абсолютную уникальность. Это – монархическая нация во главе с исключительно долговечной династией, начавшейся с прихода Гуго Капета в 987 г. и достигшей полной зрелости в своей абсолютистской форме при Людовике ХIV. И это – революционная нация, отличавшаяся от своих однотипных предшественников, будь-то голландская, английская или американская, полнейшим радикализмом своих принципов и их приспособленностью для экспорта» (курсив мой. – А.Г.)».
Революция, продолжал Нора, «стремилась монополизировать национальную идею и сфокусировать все отсылки к нации на революционном эпизоде». Произошла «идентификация нации с Революцией», и это выразилось не только в государственных символах (флаг, гимн, конституция, праздники, лозунги) и в присвоении революционной властью атрибутов монархического прошлого (памятники, здания, архивы), но и в реквизиции земель Церкви, получивших статус «национального имущества».
А невозможность исключить монархическое прошлое превратила «национальную реальность Франции» в арену «непримиримого, фундаментального конфликта между старой Францией и новой, между религиозной Францией и светской, между Францией левых и Францией правых, где правые и левые не просто политические направления, а формы национальной идентичности, способы выстраивания образов прошлого». Миссия историков, заявляет Нора, сделать «из двух одну нацию и одну историю» [377].
Эта задача решалась на протяжении всего ХIХ в., приобретя особую остроту после катастрофы 1870–1871 гг. Поражение в войне с Пруссией явилось историческим вызовом, был разрушен не только миф о могуществе французского государства, ставший весьма зыбким еще после Ватерлоо, чувствительный удар был нанесен по идеологеме цивилизационного первенства и морального превосходства Франции. Ходячая фраза о том, что в решающем сражении под Седаном (1 сентября 1870 г.) «победил школьный учитель», иначе говоря, лучше образованные массы резервистов (ранее то же самое было сказано о битве при Садовой 1866 г., в которой прусским воинством наголову была разбита австрийская армия), оборачивалась властным побуждением к реформе школьного образования.
Реформа высшего образования закономерно предшествовала преобразованию школьного обучения. Большое место в этой реформе заняла история. В преподавании истории нашли средство нравственного возрождения, знание истории страны должно было обеспечить подъем морального духа нации. К историческому знанию предъявлялись требования гражданственности и патриотизма: это было знамение времени.
История становилась полем битвы между государствами, что зафиксировали риторика и терминология поднимавшегося повсеместно в Европе национализма. «Наиболее активные нации ищут сейчас в своих исторических корнях доказательство права на существование и гарантии будущего… Иностранная наука атакует нас. Она вторгается в нашу национальную историю с ложными и бесчестящими ее толкованиями», – заявлял Лависс. «Не заняться обороной значит совершить национальное самоубийство» [378], – делал вывод историк-реформатор.
Как отмечает современный исследователь (Георг Иггерс), «никогда прежде немецкие историки не играли столь активной роли в жизни Германии, как в решающие годы борьбы за национальное объединение, с 1830 по 1871 г.» [379]. Фюстель де Куланж резюмировал: французские историки перед войной занимались поиском истины, германские думали об отечестве. В результате «французская история сражалась на стороне Германии против Франции».
Как же выдающийся историк обосновывал свой приговор? Во-первых, историческая наука во Франции сделалась «разновидностью перманентной гражданской войны». Историки стали «людьми партии», «писать историю во Франции означало участвовать в борьбе одной партии против другой». Во-вторых, именно из-за партийных раздоров историописание стало способом борьбы с прошлым нации. «Для многих из нас быть патриотом означает быть врагом старой Франции. Наш патриотизм очень часто заключается в том, чтобы позорить наших королей, предавать ненависти нашу аристократию, клеветать на все наши институты». Историки «сокрушали французскую традицию и воображали, что после этого еще может сохраниться французский патриотизм». Между тем, доказывал Фюстель де Куланж, «истинный патриотизм – это не любовь к почве, а любовь к прошлому, уважение к предшествовавшим поколениям (курсив мой. – А.Г.)» [380].
Во имя патриотических целей историк рекомендовал-таки отказаться от традиций (!) национальной историографии. «Любимая нами история – это подлинно французская наука прошлого, это умиротворенная, простая и возвышенная эрудиция наших бенедиктинцев, нашей Академии надписей, Бофоров, Фрере и многих других… История в то время не знала ни партийной, ни этнической (race) ненависти… Но мы живем в военное время… Эрудиция неизбежно сама вооружается щитом и мечом. Вот уже 50 лет, как Францию атакует и преследует войско эрудитов [381]… Будет вполне законно, если наши историки ответят, наконец, на эту непрестанную агрессию, разоблачат измышления, остановят честолюбивые замыслы и защитят… от этого нашествия границы нашего национального сознания и устои нашего патриотизма (курсив мой. – А.Г.)» [382].
Хотя и не столь радикально, как предполагал Фюстель де Куланж, происходило сближение исторического образования с патриотическим воспитанием. Снискавший за свою просветительскую деятельность звание «национального педагога (instituteur national)», Эрнест Лависс заранее отверг возможные упреки: «Скажут, что опасно придавать цель интеллектуальному труду, поскольку ему надлежит неизменно быть превыше всяких интересов. Но в стране, где науку почитают, ее используют для национального воспитания». Так, когда для возрождения Германии потребовалось знание исторических источников, там (с 1826 г.) начали издавать многотомное