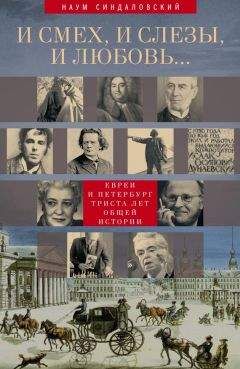Такие изысканные каламбуры рафинированных умников фольклор уравновешивает простодушным казарменным юмором небезызвестного поручика Ржевского:
Гвардия его величества на балу в Смольном институте. Юная смоляночка подбегает к одному из столиков:
– Господа офицеры, посоветуйте, что мне делать. Мне сегодня исполнилось шестнадцать лет, а в торте, который мне подарили, семнадцать свечек, господа. Что мне делать с лишней, господа?
Поручик Ржевский стремительно вскакивает с места:
– Господа офицеры! Молчать! Всем молчать!
* * *
Поручик Ржевский едет в поезде на верхней полке. Внизу беседуют дамы.
– Бологое расположено как раз между Москвой и Петербургом.
– О да, я всегда, когда поезд останавливается там, ощущаю, будто я одной ногой стою в Москве, другой – в Петербурге. Поручик свешивается с верхней полки:
– Бывал-с, бывал-с, и такая, доложу, грязная дыра…
* * *
Поручик Ржевский гуляет с Наташей Ростовой в Летнем саду.
– Поручик, а вы хотели бы стать лебедем?
– Голой жопой и в мокрую воду!? Нет уж, увольте.
Серия микроновелл о поручике Ржевском в роли главного героя появилась не на пустом месте. Подобных анекдотов в старом Петербурге было достаточно.
Купчиха Семижопова написала на высочайшее имя прошение об изменении неблагозвучной фамилии. Император наложил резолюцию: «Хватит и пяти».
* * *
Государь Александр Павлович прогуливался однажды по саду в Царском Селе. Шел дождик, однако это не помешало толпе дам собраться посмотреть на обожаемого царя. Когда он поравнялся с ними, то многие в знак почтения опустили вниз зонтики. «Пожалуйста, – проговорил государь, – поднимите зонтики, медамез, не мочитесь». «Для вашего императорского величества мы готовы и помочиться», – отвечали дамы.
* * *
По академическому музею прогуливается маменька с дочкой-институткой.
– Посмотри, Аннет, какие огромные яйца у страуса, – проговорила маменька.
– Ах, маменька, это у того самого Страуса, что играет так мило вальсы в Павловском вокзале?
* * *
Император Николай Павлович просматривал проект железной дороги Москва – Петербург. Предстояло решить один вопрос, остававшийся до сих пор нерешенным: какой должна быть ширина железнодорожной колеи – узкой, как в Германии, или шире, как предлагали инженеры. Император с утра был не в духе и потому раздраженно наложил резолюцию: «На хуй шире?» С тех пор на всей территории России колея железной дороги на несколько сантиметров шире, чем в Европе.
Эволюция анекдота от короткой невыдуманной, казалось бы, невероятной, но все-таки реальной истории до злободневного вымысла с остроумным концом практически вывела его из области литературного бытования в область устного народного творчества. Анекдот ушел из жанра новеллы и приблизился к частушке. Краткость стала едва ли не доминирующим качеством анекдота.
– Давайте выпьем, Владимир Ильич.
– Нет, батенька, больше не пью. Помню, как-то в апгеле нализались. Занесло на Финляндский вокзал, взобгался я на бгоневичок и такую хуйню нес, до сих пог газобгаться не могут.
* * *
К столетию со дня рождения Ленина ленинградская фабрика резинотехнических изделий «Красный треугольник» выпустила юбилейные презервативы в честь верной подруги Ленина Надежды Константиновны Крупской. Презервативы называли: «Надень-ка».
* * *
Тетя Надя шутки ради
Ильичу давала сзади.
Так и вышел тот трактат:
«Шаг вперед и два назад».
Надо полагать, что широко распространенное мнение о преимущественном интересе анекдота к политической жизни общества не всегда справедливо. Петербургский бытовой анекдот не менее остер и опасен, чем политический. Подтверждение тому легко найти в недавней истории нашей советской жизни. Главное, анекдот всегда выполнял общественную функцию, либо указывая на что-то, либо что-то обличая. В отличие, скажем, от частушки, которая, как мы увидим позже, не более чем озорство, шалость, дурачество.
Старушка входит в переполненный автобус. Никто ей не уступает место.
– Неужели в Ленинграде не осталось интеллигенции? – горестно вопрошает она.
– Интеллигенции, бабуля, дохуя. Автобусов мало.
* * *
– Алло! Это прачечная?
– Срачечная!! Институт культуры.
* * *
На Большом проспекте Васильевского острова роняет старушка платочек. Подбегает милиционер, поднимает платок и подает старушке.
– Вы уронили, бабуля.
– Спасибо, сынок. До революции жандарм матом бы обругал.
– Что ты, бабуля, нас за это ебут.
* * *
Лицом к Казанскому собору стоит мужик и мочится на колонну. Сзади подходит интеллигентного вида мужчина и робко дотрагивается до плеча мужика:
– Простите, пожалуйста, как пройти к Исаакиевскому собору?
– Зачем тебе Исаакиевский? Ссы здесь.
Прогремевшая однажды на весь мир с телевизионных экранов пресловутая формула: «В Советском Союзе секса нет» завершила целый период ханжеской морали, замешанной на беззастенчивой лжи и невероятном лицемерии. Двойная мораль сводилась к некой негласной договоренности «верхов» и «низов»: «мы делаем вид, что говорим правду, вы делаете вид, что верите нам». Все жанры и виды советского искусства в один голос, как хорошо отрепетированный хор фабричной самодеятельности, доказывали, что никаких отрицательных явлений, в том числе проституции, в Ленинграде нет, и только один фольклор с завидным упорством обреченного утверждал обратное.
Московское радио задало своим провинциальным коллегам один вопрос:
– Правда ли, что у всех блядей блестят глаза?
Армянское радио отвечать отказалось. Одесское радио сообщило, что если бы это было правдой, то в Одессе были бы белые ночи.
Петербургское радио обиделось:
– Просим без намеков.
* * *
Армянское радио спросили:
– Что будет, если у всех блядей в стране будут светиться глаза?
– Везде будут белые ночи, как в Ленинграде.
* * *
Заспорили грузин и ленинградец, где эхо лучше – в Грузии или в Ленинграде. Поехали в Грузию. Пошли в горы. Крикнули:
– Бляди-и-и-и-и…
И в ответ услышали многократное:
– Бляди… Бляди… Бляди… Вернулись в Ленинград. Встали посреди Исаакиевской площади и крикнули:
– Бляди-и-и-и-и…
И через мгновение услышали со стороны Московского вокзала:
– Идем…
Район Московского вокзала и Лиговский проспект в целом в 1920-е годы стал средоточием дешевой в нетребовательной проституции. Именно в те годы родилось бытующее до сих пор выразительное ругательство: «Блядь лиговская». Не уступал Лиговскому проспекту и Невский. Судя по бытописательской и публицистической литературе дореволюционной России, проституция на Невском носила пугающе будничный характер. Эта особенность и сейчас подчеркивается в фольклоре. Все то же вездесущее армянское радио отвечает на вопрос своего любопытного слушателя:
– Можно ли совершить половой акт посреди Невского проспекта?
– Нет, помешают многочисленные советчики.
Но, перефразируя название известного фильма Никиты Михалкова, территория секса стремительно расширялась.
В Ленинград пришел состав
С красными вагонами.
Будут девки разгружать
Ящики с гондонами.
* * *
Я зарежу милого
На улице Вавилова
За сынка, зачатого
На улице Курчатова.
* * *
Едем, телка, в Комарово,
Поебу и будь здорова.
* * *
У Петровского причала,
Там, где сфинксов парапет,
На общественных началах
Девки делают минет.
* * *
В сто раз лучше отдаваться
Этим усачам,
Чем лентяям ленинградцам
Или москвичам.
* * *
Папа едет в Ленинград,
Мамин ёбарь очень рад.
Ладушки-ладушки,
Буду жить у бабушки.
Беспрецедентные возможности использования не ограниченного условностями синонимического ряда в первую очередь сказались на частушке. Малая форма этого народного жанра требовала особенной выразительности, которая достигалась предельно возможной точностью лексического выбора. В свою очередь достигнутая таким образом точность не была результатом первоначального отбора. Лексика частушки выкристаллизовывалась в процессе многократного употребления при передаче из уст в уста. И даже будучи зафиксированной в печатном источнике, частушка допускала многовариантность, что, кстати, всегда говорило в пользу ее фольклорного происхождения. Литературный текст канонизирован и не допускает никаких разночтений. Но даже предельно специфическую яркость и образность запретного слова в фольклоре вряд ли стоит рассматривать как непристойность, поскольку оно интонационно нейтрально, в отличие от того же слова, использованного для ругани. У исполнителей подлинно народных частушек нет и любования собственной смелостью, что, к сожалению, присуще авторам так называемой художественной литературы, с избытком нашпигованной ненормативной лексикой. Самобытной частушке, повторимся, несвойственны ни агрессивность, ни эпатаж.