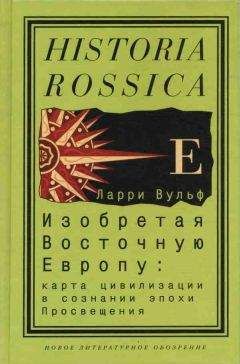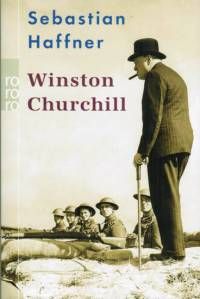Ужасные дороги доведут вас до самого Счиали-Кавака; после отдыха вам предстоит тащиться еще три часа через грязь огромного, очень красивого леса, где вы не услышите другого звука, кроме звука собственного ружья, из которого вы стреляете время от времени, чтобы предупредить тех, кто не слишком торопится или, наоборот, торопится слишком сильно… и voilà, именно так и пересекают пресловутые Балканы[288].
Д’Отрив был полон решимости привезти вас с собой в Восточную Европу со всей ее грязью, вкладывая вам в руки ружье, убеждая вас стрелять из него, понуждая ваших проводников и носильщиков двигаться размеренно. Пока вы пересекали Балканы, д’Отрив лежал в своей повозке, «приговоренный к желудочным коликам, мучимый тошнотой».
Через две недели после выезда из Константинополя путевой дневник д’Отрива все больше и больше начинает превращаться в собрание литературных аллюзий. Еще не оправившись от своего медицинского мученичества, он уже обнаружил в Болгарии религиозную утопию:
Потом я проследовал в молчании и без всякого интереса через Чингуали, Кайали, Эрубиалар, Кучуфлар, Чарви, деревни наполовину турецкие, наполовину болгарские, где мусульмане и христиане живут вместе, не испытывая ненависти, даже в содружестве, вместе пьют плохое вино в нарушение поста и рамадана… и остаются честными[289].
Элементы фантазии здесь тем более ощутимы, что, по собственному признанию д’Отрива, он не выходил из повозки по причине тошноты и едва ли мог внимательно изучить эти пять деревень. Свою фразеологию он, несомненно, почерпнул у Вольтера, особенно описание того, как крестьяне «вместе пьют плохое вино в нарушение поста и рамадана»; подобные отзвуки «Кандида», «Задига» и даже «Философического словаря» придавали его «путевым заметкам» сильнейший привкус литературности.
Если д’Отрив и мог иногда сойти за аббата-ораторианца, то лишь за такого, какие были типичны для эпохи Просвещения. Он горячо одобрял мирное сосуществование и даже взаимопроникновение разных религий.
Священники и имамы с одинаковым снисхождением относятся к союзам между приверженцами обеих религий. Нередко можно увидеть тюрбаны и образа укрывающиеся под одной крышей, и Коран с Евангелием, лежащими друг на друге[290].
Подобно тому как война между двумя империями, Русской и Турецкой, не имела никакого отношения к соперничеству между двумя стариками, религиозные войны, оказывается, никак не влияли на быт живущих в Болгарии вперемешку представителей различных вер. Чем больше д’Отрив пытался сосредоточить внимание на самих народах, населявших Восточную Европу, тем больше эти народы превращались в обычную литературную конструкцию эпохи Просвещения, скорее мыслительную, чем действительную. Д’Отрив объяснял религиозный мир в регионе «невежеством и грубостью необразованных и непросвещенных народов» и, как типичный аббат Века Разума, философски отпускал им грехи: «Этот религиозный скептицизм, столь миролюбивый и столь кроткий, показался мне в высшей степени простительным». Оказывается, населявшие Болгарию народы вовсе не были «дикарями, не способными разумно рассуждать ни о чем», хотя за неделю до того именно так, слово в слово, д’Отрив описывал болгар, обвиненных в воровстве и повешенных в Балканских горах. Лично совершив путешествие через Балканы, д’Отрив понял, насколько философски амбивалентна цивилизованность, и заключил с вольтеровской иронией: «Эти несчастные, таким образом, очень далеки от цивилизации, поскольку в них нет тех страстей, которые благодаря предрассудкам делаются столь распространенными и столь неискоренимыми»[291].
На Дунае, на границе между Болгарией и Валахией, д’Отрив задумался было о чуме, но отмел подобные мысли:
Окрестности Силистрии усыпаны кладбищами, которые вымощены свежими могилами; предместья напоминают пустыню, и, добавляя печальности этому пейзажу, воображению повсюду видится смерть, окруженная трупами и умирающими и изрыгающая из своего смердящего рта ядовитую заразу. Я не знаю, как передать впечатление, которое произвел на меня среди ужасов этой сцены воздушный змей, взвившийся в небо и весело плавающий над городом. Мысль о стайке детей, бегающих и возящихся вокруг его бечевки, тотчас же пронзила мою душу; их смех, который я, казалось, слышал, рассеял преследовавшие меня грустные видения, и две тысячи болгар, турок, армян, христиан, явившихся, чтобы увидеть наши флаги, услышать наши барабаны и есть из наших рук в течение более чем часа, уже не причинили мне страха — все благодаря этому змею[292].
«Воображение» д’Отрива разыгралось до того, что начинало подменять наблюдение: на смену зрелищу смерти является всепобеждающее зрелище радостных детей. На следующую ночь, уже переправившись через Дунай и оказавшись в Валахии, д’Отрив пережил новую «пытку», его «заели блохи». Он, однако, выстоял в схватке при помощи еще одного видения.
Я видел себя самого, испещренного красными точками и круглыми пятнами, которые из-за своей многочисленности касались друг друга и скорее напоминали те маленькие чешуйки, из которых состояли сплошные доспехи древних даков, в чьей стране я имел несчастье отправляться на ночлег в первый раз[293].
Даже если эти пятна и точки приносили мучение, по крайней мере, они не были знаками чумы. Д’Отрив немедленно преобразил свою уязвимость в фантастический образ блестящих доспехов и вслед за многими путешественниками по Восточной Европе вообразил себя не в современной Валахии, а в древней Дакии. Соответственно он продолжал наслаждаться, глядя, как дети играют «в грязи, голые и проворные, словно обезьянки»[294].
Д’Отрив обнаружил сходство между Молдавией и Валахией, хотя путешественник XVIII века еще не мог объяснить соотношение между ними существованием такой категории, как Румыния: «Точки, в которых эти два государства соприкасаются, напоминают друг друга совершенно; одинаковые превратности судьбы, одинаковые несчастья, одинаковая история довели валахов и молдаван до полнейшего физического и морального однообразия». Слова вроде «довели» и «несчастья» означали, что оба народа одинаково отсталы. Несмотря на это, д’Отрив не побрезговал насладиться «чрезвычайной почтительностью [молдаван] к любому, кто выглядит приближенным господаря»[295]. За два дня до окончания поездки, в Яссах, он насладился наконец фантазией о чем-то большем, чем почтительность местных жителей. Он остановился в доме, где его внимание привлекла восемнадцатилетняя девушка, работавшая над вышивкой: «Руки этой вышивальщицы были столь же прекрасны, как у наших герцогинь». Д’Отрив поужинал и отправился в постель, испытывая «желания другого рода», но решил уважать добродетель этой девушки. Дневниковые записи за этот и за следующий день не сообщают, остался ли он верен своей решимости.
Прощай, прекрасная вышивальщица! Молдаванин, который сделает тебя счастливой, будет и сам очень счастлив, если, подобно мне, оценит твою красоту… на прощание я даю ей денег; она берет их, опускает глаза, целует мне руку; что до меня, то я восхищаюсь ею, как мадонной Корреджио[296].
Воображение д’Отрива, то галантное, то благочестивое, вечером превратило девушку в герцогиню, а наутро — в мадонну; но, прибегая к многозначительным околичностям как раз перед тем, как передать ей деньги, путешественник оставил нас гадать, что же случилось той ночью. Д’Отрив с его богатым воображением нашел в Восточной Европе столько возможностей поупражняться в фантазиях и литературных стилизациях, что, конечно, мог предоставить некоторые эпизоды воображению своих читателей.
«Самое горячее воображение»
Год спустя по маршруту д’Отрива проследовала леди Элизабет Крэйвен. Отправляясь из Константинополя, она отвергла дорогу через Белград, якобы кишащую разбойниками: «Я ознакомилась с картами и с мнениями наиболее сведущих здешних путешественников, и меня уверили, что я могу легко и быстро проехать через Болгарию, Валахию и Трансильванию до Вены». Затем, однако, она получила новые предостережения о «гораздо большей опасности в случае следования новым маршрутом, поскольку в этих странах еще больше разбойников и убийц, и… каждую милю будут попадаться головы, насаженные на кол»[297]. Она решила не верить этим рассказам, но тем не менее путешествовала с «парой отличных маленьких английских пистолетов», которые носила на поясе. Как она писала, «большинство женщин испугались бы предпринимаемого мною путешествия; но, попав в страну Магомета, я должна выбраться из нее, так что я радостно и весело отправлюсь в путь». То обстоятельство, что она женщина, придавало и самому путешествию, и рассказу о нем особенный привкус авантюризма. Она сама обыгрывала эту тему, например в описании Болгарии: