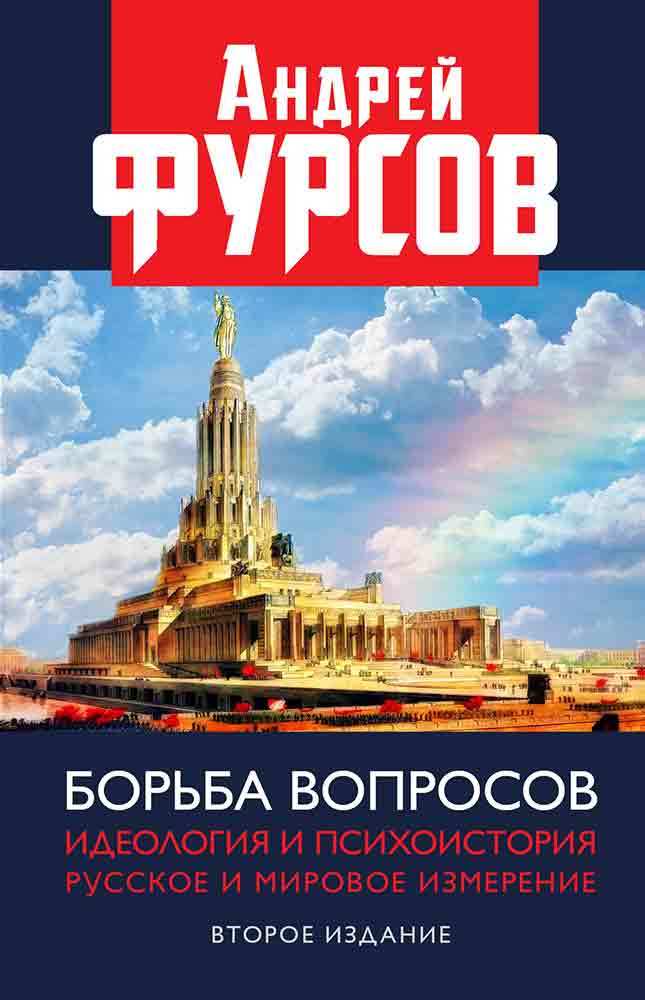в конце календарного XX в. она, похоже, реализует некоммунистический или даже антикоммунистический манифест. Колесо русской истории сделало ещё один оборот, превратившись из красного – нет, не в белое, в разноцветное, в «kolorowe jarmarki» нынешней РФ. Но, будто по принципу Лампедузы – la plus да change, la plus да reste тёте chose, – коммунистический ли манифест, антикоммунистический ли. Впрочем, к самим манифестам это уже не имеет почти никакого отношения. Это имеет отношение к нам, к нашей жизни и к тяге постоянно переделывать жизнь с помощью манифестов, будь то Манифест о вольности дворянской или об освобождении крестьян, Коммунистический манифест или какой-нибудь самоновейший капиталистический. Переделывать начисто, при этом забывая – подобно «детям карнавала» (исторического) – о предыдущем манифесте, порой диаметрально противоположного содержания, и о целом слое времени, с ним связанным – ничто. Ведь почти никто, например, и не вспомнил у нас о 150-летней годовщине «Манифеста Коммунистической партии», под знаком которого мы прожили 74 года. Унесено ветром.
Там, где сияла раньше
«Слава КПСС», там «Кока-кола»
Горит над хмурою державой,
Над дискотекою весёлой.
(Т. Кибиров)
Метаморфозы! Такой пластике, пожалуй, не страшны никакие манифесты – «вынесет всё» (в обоих смыслах этого глагола).
«Грустна наша Россия, господа».
Россия ли? Наша ли?
На эти вопросы следует отвечать интеллектуально честно и, как то делали, кстати, Маркс и Энгельс, радикально.
«Манифест» – бесспорно радикальный документ эпохи. Но это ещё и документ фаустовского духа, Европейской цивилизации, христианского исторического субъекта. В своё время А. Камю, соглашаясь с М. Шелером, писал, что мятеж имеет смысл только в рамках западной цивилизации – начиная с античности. Что же касается обществ, где неравенство крайне велико (например, Индия с её кастовой системой), то там для мятежа в строгом смысле этого слова места нет. Мятежный дух и мятеж возможны там, где фактическое неравенство прикрывается формально провозглашаемым равенством, чего нет в традиционных формах индийской (и прочих неевропейских) социальной организации и системе ценностей [137].
Какова же была сила «Манифеста», идей Маркса, если в течение целого столетия они были идейно-политическим оружием угнетённых не только в Европе, но и за её пределами, там, где «свобода» и «равенство» никогда не были ни ценностями, ни элементами практики? Разумеется, над созданием такой ситуации немало потрудился капитализм, и всё же идейный накал самих идей Маркса оказался тоже силён. Его хватило на сто с лишним лет, грубо говоря, – до 1968 г. на Западе, до 1979 г. (иранская революция) – на Востоке. Накал этот хорошо чувствуется в «Манифесте», его писали серьёзные люди, а не социальные и интеллектуальные импотенты. Их (особенно Маркса) наследие ещё ждёт своего осмысления – как само по себе, так и с позиций новой эпохи, новых субъектов исторического развития и действия.
Проблема идеологии в историческом контексте капиталистической системы
К любому явлению возможны два подхода – абстрактно-логический и конкретно-исторический, точнее, конкретный историко-системный. А.А. Зиновьев представил нам первый подход. При многих достоинствах у него есть существенные недостатки. Например, боюсь, при таком подходе мы так до конца и не поймем, чем отличается идеология от религии и начнем ставить некорректные вопросы об идеологической функции религии. Идеология есть явление капиталистической системы и понять ее можно только в контексте этой системы, т. е. на основе принципов системности и историзма.
Вопрос о терминах, понятиях – самый важный. Проблема изучаемой реальности – это, прежде всего проблема языка, с помощью которого ее изучают, т. е. объясняют и описывают. Хотим мы того или нет, но мы живем в капиталистическую эпоху. Все научные понятия, которыми мы пользуемся, более того, все существующие обществоведческие дисциплины, будь то экономическая теория, социология или политология, так или иначе, отражают реальности именно капиталистической системы буржуазного общества. Мы настолько сжились с ними, что с трудом представляем себе отражение реальности на ином языке. Мы, к сожалению, не воспринимаем понятия наук об обществе так, как должно воспринимать все понятия – на основе принципов историзма и системности.
Простой пример: в буржуазном обществе власть и собственность обособлены друг от друга институционально («закон Лэйна»); для этого общества характерна институциональная дифференциация на экономическую («рынок»), социальную («гражданское общество») и политическую («государство»). Возникает вопрос: как с помощью и на основе таких понятий исследовать и описывать такие общества, в которых не обособлены власть и собственность (все «докапиталистические», советское), религия и политика (например, ислам), социальная и политическая сферы (античный полис). Ясно, что без учета исторического (т. е. имеющего начало и конец) и системного (т. е. относящегося к той или иной системе) характера того или иного понятия, мы обречены на некорректные постановки вопроса, а, следовательно, на ошибочные, искажающие реальность на капиталистический лад (капиталоцентричные) ответы. Формулировка «религия выполняет идеологическую функцию» является некорректной постановкой вопроса именно такого рода. На мой взгляд, – это не что иное, как логическая ошибка, в основе которой нарушение принципов историзма и системности. На самом деле все происходит наоборот: идеология, возникнув в определенной системе (капиталистической) и на определенном этапе ее истории (рубеж XVIII–XIX вв., точнее, «эпоха революций» 1789–1848), начинает выполнять те функции, которые ранее выполняла религия. Это, – во-первых.
Во-вторых, идеология – потому-то она и возникла, – выполняла и такие функции, которые религия выполнять не могла по определению. Если для социальных битв XVI–XVII вв. вполне хватило религии, идейным языком общественной борьбы был религиозный (протестанты против католиков), то социальные битвы конца XVIII–XIX и XX вв. потребовали принципиально иной формы организации. Почему и как – это уже другой вопрос.
Я не стал бы сводить различия между религией и идеологией к вере. Во многие идеологические постулаты можно верить, многие религиозные по свой сути положения можно принимать без веры или просто чисто внешне, как это делали персы, принимая ислам, чтобы не платить джизью – налог с не-мусульман. Идеология выполняет далеко не только формальную функцию, ограничение ею последней означает, что данная идеология умирает, что из нее уходит реальное содержание и все сводится к форме.
Любая идеология это прежде всего некая система идей. Но не всякая система идей есть идеология. Так, идеологией не являются мифология, религия, наука. Разумеется, после того как возникла идеология названные выше формы духовной организации отчасти могут выполнять и идеологическую функцию. Кроме того, так же, как капитал в эпоху своего господства окрашивает в свои тона и некапиталистические формы, идеология в эпоху своего господства окрашивает в идеологические тона и неидеологические формы. Например, национализм или исламский фундаментализм, которые возникли как реакции, причем негативные, отрицающие, на универсалистскую идеологию (в первом