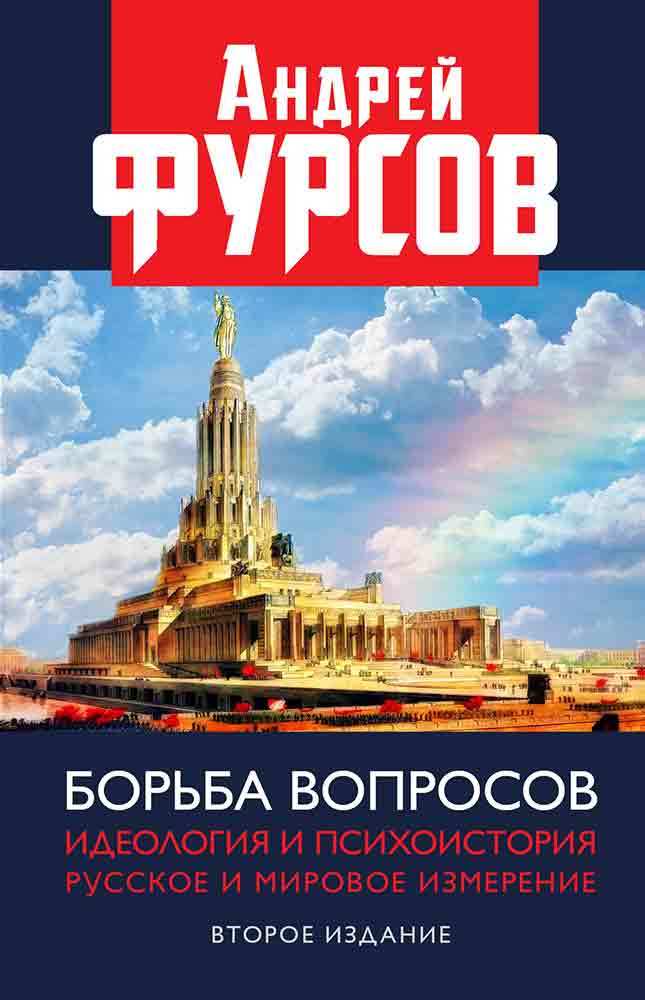углом борьбы противоречий, а их единства. И либерализму, и марксизму, и, в меньшей степени, с оговорками, консерватизму иногда по негативу, присущи несколько общих черт. Обусловлено это несколькими вещами. Первое, все три идеологии возникли в одном цивилизационном и формационном поле. Второе, все они, так или иначе, выросли из геокультуры Просвещения – этой предидеологической матрицы. Третье, все три взаимодействовали – вступали в диалог, конкурировали, боролись, стремились вытеснить друг друга, дать лучшие ответы на те вопросы, которые ставит противник, оппонент, т. е. победить на чужом поле, при случае и захватить его. Вот это последнее – попытки «игры на чужом поле», часто оказывается весьма контрпродуктивным с точки зрения конкретной «отдельно взятой» идеологии. Далеко не на все вопросы одной системы идей можно дать ответ на языке другой; принятие этого последнего автоматически означает подрыв собственных позиций, и противник скрытно и тихо занимает «не его» территорию. В результате, например, в марксизме появились рассуждения о смысле и целях существования человечества, в марксистской социальной теории – концепция буржуазной революции, некритически воспринятая из либеральных теорий и т. п. В либерализме появились нехарактерные для него классовые схемы и т. д.
В немалой степени подобному взаимопроникновению или, точнее, взаимопереплетению и взаимовоссозданию, когда на языке одной идеологии ставятся и решаются проблемы других идеологий, способствовали практика и логика политико-экономической борьбы на государственном и межгосударственном уровнях. Так, логика сначала борьбы за выход из кризиса 1929–1933 гг., а затем противостояния фашизму и коммунизму заставила либеральные демократии Запада, которые французский политолог Ж.-К. Рюфэн назвал «либеральными диктатурами», включить в свою социальную практику ряд элементов «реального социализма» и идейно обосновать это. В результате получилось «welfare state» 1940-х -1970-х гг., вовсе не вытекающее из природы и логики развития ни капитализма, ни либерализма. Зеркально этому соответствует отказ (с конца 1950-х гг.) западных социалистов (социал-демократов) от марксизма, идей диктатуры пролетариата и т. д.
Такое взаимоуподобление, пусть главным образом внешнее, ослабляя отдельные идеологические углы, усиливало треугольник в целом, как Надидеологию (или Сверхидеологию). При этом оно и трактовалось в духе одной из европейских ценностей – плюрализма, что еще более усиливало треугольник, поскольку любое отклонение от одной из частных идеологий можно было обосновать на над– (или сверх-) идеологическом уровне. В марксизме-ленинизме как однородном монолите Идеологии-Антиидеологии подобное было невозможно, практически любое отклонение, любая вариация грозили ему гибелью. В исходно разнородном либерально-консервативно-социалистическом треугольнике Идеологии-Сверхидеологии идейные (или даже идеологические) отклонения в углах такую опасность не представляли – плюрализм, понимаешь. Иными словами, при прочих равных, позиции плюралистичной Сверхидеологии (подвижное в подвижном) в сравнении с монолитной Антиидеологией в конечном счете оказались и прочнее и динамичнее, а потому выигрышнее (от соревнования систем я сейчас абстрагируюсь). Выполнение треугольником как идеологической, так и неидеологической функций (в том числе и в противостоянии марксизму-ленинизму) не требовало ни сковывающей монолитности, ни отрицания идеологии как феномена. Парадоксальным образом в XX в. именно марксизм-ленинизм был объявлен идеологией, образцом конструкции идеологического типа, что полностью скрыло, закамуфлировало его антиидеологический характер. (Аналогичным образом советская власть, принципиально отрицавшая государственность, была объявлена сверхмощным государством.) Отчасти это произошло из-за непонимания сути явлений и подмены содержания формой. Отчасти делалось сознательно, чтобы, объявив идеологией антиидеологию, скрыть идеологические характеристики собственной системы: какая идеология – у нас плюрализм. Но идеология как историческое явление вовсе и не отрицает плюрализма, напротив, предполагает его, т. к. возникает как один из трех возможных отношений к феномену изменения.
Подводя итог по данному вопросу, отмечу следующее. Первое. Идеология есть комплекс идей и представлений о человеке, обществе и природе, сконструированный в результате осознания неизбежности и нормальности социальных изменений (что характерно лишь для капиталистической эпохи на определенной стадии ее развития) и возможности политического управления этими изменениями в целях реализации определенного будущего (как проекта) в определенных групповых интересах, представляемых (в данной идеологии и ею) как всеобщих.
Второе. Будучи одним из трех возможных ответов на проблему изменения, идеология развивается и функционирует в положительном и отрицательном взаимодействии с другими ответами-идеологиями как элемент некоего единства, не претендуя на тотальность охвата общества и, следовательно, принципиальное отрицание (двух) других идеологий в частности и, следовательно, феномена идеологии в целом. Подобного рода охват означает отрицание идеологии, возникновение антиидеологии (пусть и в идеологической оболочке).
Кому-то такое определение идеологии покажется слишком узким, ограниченным историческим пространством и временем. Но научные понятия и не могут быть иными – безгранично широкими и растягивающимися, как жевательная резинка. В таком случае они превращаются в метафоры, просто в слова. Какой научный смысл и прок в понятии, если оно охватывает религию, мифологию, идеологию? Такая «идеология везде» = «идеология нигде».
При всей огромной роли идеологии, ее значение не стоит переоценивать – ни для верхов, ни для низов. Идеология действительно является орудием господствующих групп. В то же время бывают ситуации, когда ее отсутствие развязывает им руки. Или когда верхи и низы живут в различных, лишь частично (по принципу «кругов Эйлера») совпадающих идейных комплексах. После религиозного раскола XVII в. и петровских реформ первой четверти XVIII в. православие перестало полностью определять культурно-психологическую жизнь, общественные настроения и ценности верхов, которые становились все более светскими и просвещенными. А население продолжало жить в православии. Репрессивная хватка режима, его социальная молодость (и сила) были таковы, что он не нуждался в особой идеологической системе; более того, ее отсутствие развязывало руки. И так было вплоть до Николая I, когда режим стал нуждаться в идейной подпорке и царь заказал создание национальной идеологии («самодержавие, православие, народность»). Из этой затеи, естественно, ничего не вышло, поскольку идеология по определению не может быть национальной.
Сегодня мы опять оказываемся в безидеологическом (но не безыдейном) времени, но не только мы, Россия, но и мир в целом. Не случайно во всем мире происходят оживление религий (причем в форме фундаментализма – и это ситуация не только ислама, но также иудаизма и христианства) и сект, разгул иррационального, вера в чудеса (астрология, порча, сглаз) и т. д. И это очень показательно: поворот к религии от идеологии обусловлен тем, что огромное количество людей поняли или почувствовали, что будущего нет – в том смысле, что надеждам на светлое будущее, на улучшение жизни нет. Даже в США, чтобы жить на уровне 1980-х гг., многим людям приходится работать на двух-трех работах, об «остальном» мире я не говорю.
Нынешний религиозный поворот лишний раз подчеркивает связь идеологии с изменением, с тем или иным футурпроектом. Как заметил главный редактор «Монд дипломатик» Игнасио Рамонэ, в 1980-е – 1990-е гг. на Западе даже социалисты и огромная часть левой интеллигенции отказались от всяких надежд на преобразование