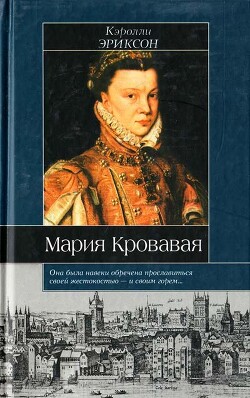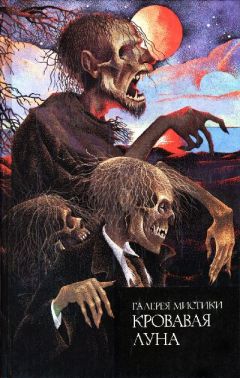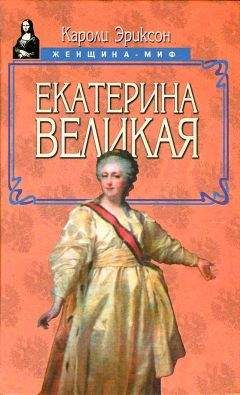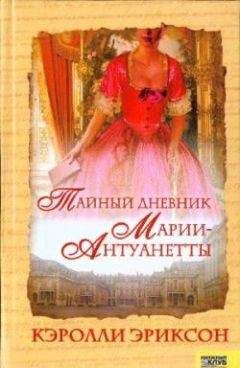В момент написания письма Мария не могла знать, что уже через несколько недель ее мольбу о помощи император воспримет серьезно. Правда, к действиям Карла подвигнет не жалобное послание кузины, а огорчительные новости из Лондона относительно намерений короля. Гертруда Блаунт, маркиза Эксетер, последовательная сторонница Екатерины и ее дочери, услышала от одного из высокопоставленных придворных, что в начале ноября Генрих собрал своих ближайших советников и заявил им о своем решении предать Екатерину и Марию смерти. Он, видите ли, не может больше переносить «страх и состояние неопределенности», в которые они его повергают, и потому на ближайшей сессии парламента их непременно следует осудить. Маркиза написала об этом Шапюи, добавив, что король тверд в своем намерении и очень зол. «Он несколько раз настойчиво повторил, что больше ждать не намерен», — писала она. Слушая Генриха, советники могли вспомнить реплику, которую он бросил относительно Марии месяц назад. Тогда в ответ на чье-то замечание о том, насколько она одинока, король раздраженно проворчал, что скоро «ей вообще не потребуется никакое общество… и давно уже пора показать на ее примере, что в королевстве никому не дозволено нарушать законы».
«В первый год правления мне предсказали, — продолжил он, — что сначала я буду кротким, как овца, а затем стану свирепее льва. Так вот, это время пришло».
Генрих неистовствовал три недели, и маркиза отправилась к Шапюи, чтобы лично подтвердить настоятельность своих посланий. Посол сообщил императору, что она явилась к нему тайком, переодетой, и, конечно, сильно рисковала. Гертруда Блаунт принесла свежие свидетельства решимости Генриха довести дело до конца.
«Король обратил внимание, — сказала она, — что его решимость избавиться от бывшей жены и дочери печалит некоторых приближенных — иные даже заплакали, так это разозлило его еще сильнее. Он заявил, что слезами „его не проймешь и что для него лучше потерять корону, чем изменить решение“.
Рассказанное настолько чудовищно, — написал Шапюи императору после встречи с маркизой, — что в это невозможно даже поверить, по тем не менее леди Блаунт настаивает: король выразился именно так».
Сочувствующие Екатерине и Марии придворные полагали, что казни, которые продолжались уже не один месяц, настолько ожесточили сердце Генриха, что теперь ему ничего не стоит приговорить к смерти бывшую жену и дочь. Кроме того, его мучило еще одно обстоятельство. Анна была беременна, поэтому гораздо лучше, если эти две женщины уйдут из жизни. Особенно если родится мальчик. Возможно, в душу Генриха запало пророчество ясновидца Анны, что, пока существуют Екатерина и Мария, у его ребенка нет никаких шансов выжить.
Какими бы мотивами Генрих ни руководствовался, выступая перед советниками, его слова убедили Шапюи и даже самого императора, что если Екатерину с Марией вообще следует спасать, то незамедлительно. В декабре император делает первый шаг — обещает мятежным английским лордам долгожданную поддержку, а затем составляет план бегства Марии. Причем цель — не просто спасти ее от неминуемой казни. Она должна будет стать символом широкомасштабного мятежа. Как только мятежники захватят власть, Мария взойдет на престол и станет править, советуясь с матерью и под наблюдением кузена-императора. Затем ей подберут подходящего мужа, и Англия навсегда перейдет под власть Габсбургов, а разрыв с папой и церковные реформы будут аннулированы.
Выполнение этого дерзкого плана император поручил своему генерал-капитану в Нидерландах графу де Релу, приказав послать в Англию самого надежного человека, которого только можно найти, чтобы тот подготовил побег Марии во Фландрию. Она будет находиться там, рядом с Карлом, пока северные лорды не подготовятся к восстанию. Как только начнутся сражения, ее тут же возвратят в Англию, чтобы возвести на престол. Если Мария станет выражать какие-то сомнения по поводу справедливости этих действий, ее следует убедить, показав вердикт папы, где тот предает Генриха анафеме, отказывает ему в праве быть королем и объявляет отщепенцем в христианском обществе. Отобрать престол у монарха, отлученного от церкви, — деяние весьма достойное, и если Мария не сделает этого, то рано или поздно английский престол займет какой-нибудь иностранный принц.
Человек императора прибыл в Англию в первые дни нового, 1536 года. Он получил от Шапюи все необходимые сведения, а затем наметил план действий. Марию следует перевезти во Фландрию в феврале, мятеж должен разразиться в марте или апреле. К 1 мая Англия будет в руках императора.
* * *
Разумеется, в конце 1535 года Екатерина ничего не знала о готовящемся восстании, но тревожность политической ситуации, видимо, ощущала. Она писала папе, умоляя его не забывать о Генрихе и Марии, говоря об Англии как о стране «потерянных душ и мучающихся святых». «Конец безбожной тирании, — говорилось в письме, — может быть положен только в том случае, если Ваше Святейшество вмешается и спасет заблудших, отбившихся от стада, как овцы без пастуха». «Мы ждем избавления, — заключала Екатерина, — ниспосланного Господом и Вашим Святейшеством. И прийти оно должно как можно скорее, иначе время будет упущено!» Как видим, Екатерина продолжала бороться с несправедливостью, но делала это скорее по инерции, постепенно сдавая позиции под гнетом постоянных душевных страданий. Жила она в небольшой комнате, из окна которой открывался безотрадный вид на крепостной ров, наполненный протухшей водой, и запущенный охотничий парк Кимболтона. Окружали ее три фрейлины, полдюжины горничных и несколько преданных испанцев, присматривающих за всем хозяйством: лекарь, аптекарь, исповедник и камергер. Всех остальных она вполне справедливо считала тюремщиками и по — возможности избегала встреч с ними. Люди, которых Генрих назначил следить за Кимболтоном — сэр Эдвард Бедингфилд и сэр Эдвард Чемберлен, — также старались держаться на расстоянии, а большинство стражников, охраняющих ворота и сад, вообще никогда королеву-узницу не видели.
Но именно такие условия существования помогали Екатерине сохранить определенный уровень достоинства. В конце 1535 года она заболела, как вскоре выяснилось, неизлечимо. Больше всего ее удручало, что она каким-то образом несет ответственность за те испытания, что выпали на долю Англии в последние восемь лет. Екатерина пыталась жить в согласии со своей совестью, которая не позволяла ей примириться с потерей звания королевы. Но ведь она всего лишь человек, которому свойственно ошибаться! А может быть, она неправильно поняла высокую правду жизни и, настаивая на своих правах, вынудила Генриха отлучить Англию от римской церкви и насадить протестантскую ересь? А что, если, поступая, как ей казалось, правильно, она совершила непоправимую ошибку? Екатерина вспоминала гибель своих любимых приверженцев, Фишера и Мора, а также невинных монахов, которые разделяли ее взгляды на «Акт о наследовании», и мучилась еще больше. Может быть, следовало уступить требованиям короля и отказаться от претензий на королевский титул? Может быть, ей следовало удалиться в монастырь, и от этого было бы больше добра и для нее, и для других, кто страдал и еще будет страдать?
В долгие месяцы одиночества Екатерину одолевали и другие печали. Например, в прошлом ее семьи был один неприятный момент, от которого ее совесть страдала уже более тридцати лет. Во время переговоров о ее браке с принцем Артуром отец заметил, что права наследования у Артура не безупречны. Династия Тюдоров правила в Англии менее двадцати лет, и на престол мог претендовать представитель Плантагенетов (Эдуард, граф Уорик, сын Джорджа, брата Эдуарда IV), чья родословная вполне могла обеспечить соперничество с наследником Генриха VII. Фердинанд Арагонский сказал об этом Генриху, и тот поторопился с уничтожением графа, после чего переговоры о браке успешно завершились. Наверное, английский король убил бы несчастного Уорика в любом случае, даже без напоминания Фердинанда, но Екатерине до конца жизни казалось, что по вине отца на ее совести кровь графа, и она часто говорила родственникам Плантагенетов — главным образом графине Солсбери и ее сыну Реджинальду Поулу, — что ее несчастья есть Божье наказание за грех отца. Эта вина мучила ее наряду с травмой, нанесенной разводом, и пятилетней разлукой с дочерью. В конце жизни Екатерина пришла к выводу, что с самого начала была обречена на трагическое существование. О состоянии ее души свидетельствует то, как она иногда подписывала свои письма: «KATARINA SIN VENTURA REGINA» — «Екатерина — несчастная королева».