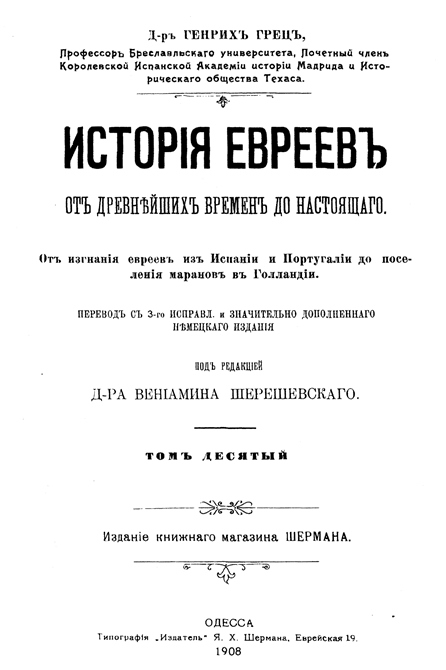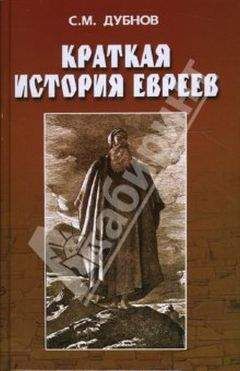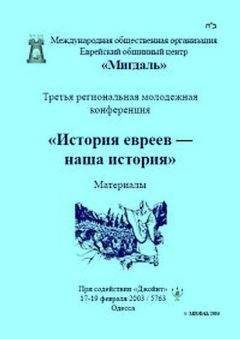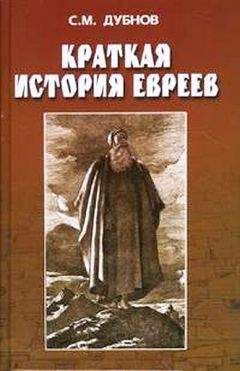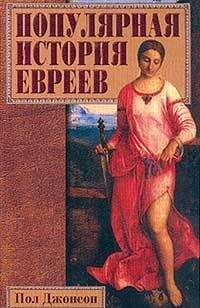собрал не более 15 кусков, ибо все говорили: «пойди к Иогану Рейхлину и попроси у него сыра».
Чрезвычайно курьезно письмо, в котором с одной стороны доказывается, что в ответе Пфеферкорна на первую серию писем мракобесов содержатся ересь и поношения императора и папы, с другой же стороны оправдываются все эти проступки. Обвинение сводилось к следующему: Пфеферкорн, назвав его святейшество рабыней Господа на земле, этим самым сказал, что папа женщина; это намек на то, что однажды на папском престоле сидела женщина, и указание на то, что папа, и, следовательно, церковь погрешимы; это же составляет ересь. В защиту же Пфеферкорна приводилось следующее: последний плохо знает грамматику и не понимает по-латыни; он думал, поэтому, что слово папа женского рода; он писал, подобно другим богословам, которые не заботятся о правильности своего языка, так как последнее не относится к их специальности. В другом письме сообщается: Пфеферкорн по делам веры разъезжает по всей Германии; это ему весьма неприятно, ибо он в Кельне оставил жену и детей; правда, богословы в его отсутствие принимали в судьбе его жены теплое участие и утешали ее; иногда же ее посещают и монахи, которые говорят ей: «мы жалеем о том, что вы так одиноки»; а она отвечает: «навещайте меня почаще, ибо я почти как вдова и нуждаюсь в утешении».
Один доминиканец пишет Ортуину: он еще не совсем убежден, останется ли Пфеферкорн в христианской вере; недавно умер декан церкви св. Андрея, крещеный еврей (Виктор из Карбена?), и перед своей смертью сказал, что «я он желает умереть хорошим евреем»; этот пример показывает, что еврей не может изменить своей природы; другой ренегат перед своей смертью приказал поставить на огонь горшок, в который положен был камень, и все спрашивал, размягчился ли камень; когда же ему ответили, что камень не может стать мягким, он сказал: «так и еврей не может стать добрым христианином; евреи крестятся только лишь либо из страха, либо из выгоды, либо, наконец, из своего презрения единоверцев».
Письма мракобесов, как первая их серия (вероятно сочиненная Кротом Рубианом), так и вторая (составленная Ульрихом фон Гутен), произвели желаемое действие. Как доминиканцы ни выбивались из сил, распространяя ложь и клевету против своих противников, обливая грязью Рейхлина и его приверженцев и сочиняя «грустные жалобы мракобесов, не запрещенные папой», в коих они в плохой прозе и еще более плохих стихах метали громы и молнии против своих врагов и призывали на них все проклятия мира, «отрубленные руки, вырванные языки и сдавленные глотки» — все было напрасно, их авторитет исчез. Своим сочинением, «жалобами мракобесов», они лишь подтвердили едкие насмешки противников над их плоскими шутками, безвкусием и упрямством. В одном письме против писем мракобесов сказано: «я слышу, что евреи радуются ходу их дела: они за столом и в своих дьявольских синагогах читают известную книгу, ежедневно издеваются над христианами и сохраняют свои кощунственные книги; поэтому, если ничтожные враги креста из прирожденной и вкоренившейся злобы торжествуют, то мы должны скорбеть, желая добиться блаженства: мы уже дожили до того, что евреи, чтобы устроить скандал церкви, переводят «письма мракобесов» на немецкий язык.
Но тайны уже нельзя было более скрыть; всюду громко говорили о том, что в церкви произошел непоправимый раскол. Не противники доминиканцев, а сам глава доминиканского ордена, Эбергард фон Клеве, и весь капитул в официальном послании к папе признали, что спор доставил им, проповедникам-монахам, всеобщую ненависть и презрение, они стали посмешищем для всех, их (конечно, незаслуженно!) выставляют врагами братской любви, мира и согласия, их проповеди встречаются с презрением, все избегают их исповеди, все, что они предпринимают, высмеивается и истолковывается, как высокомерие и чванливость. Ученики Доминго, которые обязаны были своим расцветом усиливавшемуся фанатизму против альбигойцев и тому, что они вначале придерживались более суровых нравов, чем мирское и монашеское духовенство, почти сыграли свою роль, по крайней мере, в Германии, ибо опустились значительно ниже остального духовенства.
Между тем, спор Рейхлина с доминиканцами и особенно с Гохстратеном перешел в другую область и соприкоснулся с еврейством в другой плоскости. Кабала составляла мрачный фон всего этого движения. Из увлечения этим таинственным учением, которое казалось ключом к более глубокому пониманию философии и христианства, Рейхлин хотел пощадить и Талмуд, так как последний содержал, по его мнению, элементы мистицизма. Юная кабала сделалась защитницей и покровительницей древнего Талмуда. Но Рейхлин имел весьма смутное представление об этой псевдо-науке даже в то время, когда он написал свое сочинение о «чудодейственном слове». Его любознательность и рвение непреодолимо влекли его к более близкому знакомству с кабалой. Кроме того, в виду постоянных нападок противников Рейхлина на его правоверие, честность и ученость, это проникновение в кабалу было для него делом чести, ибо только в этом случае он мог основательно доказать единомыслие кабалы и христианства. Но он имел несчастие попасть в руки плохих учителей еврейского языка. Яков Лоанс и Овадия Сфорно, преподававшие ему еврейскую грамматику, не отличались особыми познаниями в ней. Когда в ответ на клеветнические нападки Пфеферкорна на еврейские писания, Рейхлин намеревался восхвалить их и искал поэтическое произведение, на примере коего можно было бы доказать, что и еврейский язык находится под покровительством муз, в руки ему попалось заурядное стихотворение «серебряная чаша» Иосифа Эзови, которым он так увлекся, что перевел его даже на латинский язык. Какой восторг вызвала бы в нем ново-еврейская поэзия, если бы случайно он натолкнулся на сладкозвучные и глубокомысленные стихи поэтов Гебироля или Иегуды Галеви! То же случилось и с кабалой. После долгих поисков, Рейхлину случайно попался самый мутный источник кабалы, бессмысленные сочинения кабалиста Иосифа Гикатилы из Кастилии, которые незадолго до того были переведены па латинский язык выкрестом Павлом Рицио. Этот Рицио, немецкий еврей, сначала профессор в Павии, позже лейб-медик императора Максимилиана, обладая некоторыми, не очень крупными, еврейскими познаниями, использовал их у христиан. Большим талантом он не был одарен и во всяком случае не обнаруживает его в своих сочинениях.. В разгаре спора о Талмуде, когда были высказываемы самые противоположные воззрения на него, император Максимилиан, желавший составить себе самостоятельное мнение о ценности Талмуда, поручил Рицио перевести его на латинский язык. Рицио всю жизнь занимался этим переводом, и все же не оставил законченного труда, который дал бы посторонним лицам хотя бы смутное представление о Талмуде. Он делал выдержки то из того или другого талмудического трактата, то из какой-нибудь книги раввина, беспрестанно увлекаясь своей любимой мыслью о вытекающем оттуда мессианстве Иисуса.
Под влиянием графа