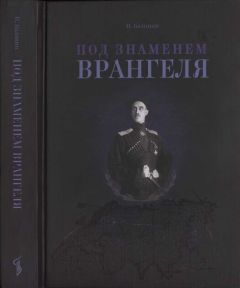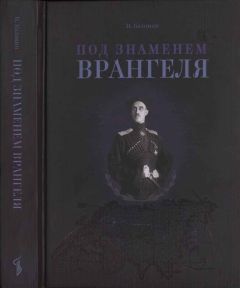Нашу комендантскую сотню, во главе с комендантом штаба полк. Грековым, мы считали погибшей. Но она приплыла сюда, в Чекрак, на рыбацких судах с Бирючьего острова, куда забралась, спасаясь от красных.
Думали конец, когда узнали, что отрезаны от Крыма. Пошли по косе между морем и Молочным озером. Затем на простых лодках перебрались на Бирючий остров. Далее нет пути. Трясла лихорадка. Нет же! Спаслись от позорной сдачи. Из Геническа приплыли рыбаки. Мы у них захватили парусник.
А где дьякон Преполовенский?
Остался… К своим перешел.
В каком месте?
— В Кирилловке. Не захотел дальше итти с нами. Залез на печь. «Не пойду, говорит, в Крым: у вас нет правды». Дали ему подзатыльника. Всурьез не захотели возиться. А он нам вдогонку по-своему, по-поповскому: «Живущий на небеси, говорит, посмеется вам». Непутевый был! Разве жалко такого.
Эта бедственная экспедиция за хлебом не прошла без пользы для полк. Грекова и его подчиненных. В Царедаровке ему некогда было забирать хлеб, но он успел отбить у крестьян мануфактуру, которую те расхищали из казенного склада. Хоть и с большим трудом, но ее удалось привезти в Чекрак. После этого комендантские подводы распухли больше прежнего.
Наконец, настал радостный для населения Чекрака день, в который голодная саранча потянулась к югу.
Я зашел к «информаторам». Они все были в сборе и стояли подле подвод. Михаил тщательно укладывал в телегу какой-то странный предмет, который то тут, то там выпячивал верх брезента.
Мимо уже проходил обоз «дежурства».
— С богом! — скомандовал М-ов.
Подводы стали медленно вытягиваться из ворот на улицу.
Казаки, под управлением помощника М-ва чиновника Наумова, затянули на прощанье свой «национальный» гимн, такое же романтическое произведение, как и сами казачьи государственные образования:
Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон
И послушно отозвался
На призыв свободы он.
Зеленеет степь родная,
Золотятся волны нив.
Из простора долетая,
Вольный слышится призыв.
Дон детей своих сзывает
В Круг державный войсковой,
Атамана выбирает
Всенародною душой.
Славься Дон и в наши годы!
В память вечной старины,
В час невзгоды честь свободы
Защитят твои сыны.
Уныло, как погребальный звон, неслись звуки этой песни здесь, среди моря, из уст голодного, бродячего люда, который отправлялся в неведомую даль разделываться за мечты казачьих политиков и честолюбие своих атаманов. Не торжественный гимн пели в этот час донцы, а читали свой приговор, в котором указывалась их вольная или невольная вина, обрекшая их на мучительное скитальчество.
Глядя на бесконечные ленты обозов, просто не верилось, что все эти перевозочные средства собраны только в одной Таврической губернии. И тут же приходил на мысль другой вопрос: а что же осталось у населения и во что обошлась таврическому крестьянству затея Врангеля?
В самых лучших экипажах ехали, разумеется, женщины, жены или содержанки офицеров, в сопровождении «набивших ряжку»[41] денщиков. Велик женский полк, и нет ему конца.
То и дело чернеют лакированные немецкие кареты, удобные для зимы или непогоды ящики. Приказ главнокомандующего вовсе воспрещал их реквизировать. Врангель здесь, на стрелке, мог проверить, как исполняли этот приказ его подчиненные.
Вон пара одров еле-еле тащат по песчаному грунту такой необходимый для войны предмет, как бочка с награбленным в Геническе вином. А вон уже совершенно фантастическая картина: отбитый у красных верблюд запряжен в… аэроплан.
— Смотрите, господин полковник, — ухмыляется старый, но зоркий Маркуша, указывая на черную карету, — нежная дамская лапка чего-то машет вам в окошечко.
Да, что-то видно. Вроде как шерстяная перчатка.
Экипаж равняется с нами. Из раскрытого окошечка высовывается медвежья пасть.
Это тот самый, что в Пологах в плен взяли. Везут, а зачем, никто не знает. У нас с вами телега без кузова, а для зверя крытая карета.
Обозы, обозы, обозы…
Большие штабы, большие обозы, маленькие таланты — большие поражения, — вспоминаются слова известного полководца XVIII века Морица Саксонского.
Кто-то вычислил, что по самому скромному подсчету через стрелку прошло около 10000 всяких экипажей. Возчики давно уже все сбежали. Ни солдаты, ни офицеры не имели основания беречь то, что побросали хозяева. Крестьянское достояние гибло. Мы нещадно уничтожали его. Стрелку, с ее мучительным для лошадей песчаным грунтом, можно было смело назвать конской могилой. Я как-то раз на протяжении только одной версты насчитал 50 лошадиных трупов.
Восстановление разрушенных большевиками хозяйств с помощью армии бездомных бродяг… Гражданская война во имя народного блага без участия народа… Спрашивается, какой же только обитатель преисподней мог натолкнуть на эту мысль барона Врангеля?
Пораженная в самое сердце, армия Врангеля все- таки сумела прорваться за Перекоп и Чонгарский мост, потеряв в Северной Таврии до 60 % от своего состава. Мобилизованные красноармейцы, по большей части, разбежались из своих полков в период отступления. Новые формирования, вроде 6-й дивизии, рассеялись. Да и старые, коренные кадры сильно поредели. От корпуса Слащева остались одни воспоминания.
Немало попало в плен и тыловых частей. В Ново- Алексеевке красная конница захватила поезд с разными учреждениями. В их числе был и корпусной суд нашего корпуса. Часть моих коллег, во главе с прокурором ген. Поповым, успела убежать в Сальково; председатель же суда ген. — лейт. Ф.В. Петров и военный судья полк Замчалов погибли.
Пир кончился бедою. Крым снова превратился в осажденную крепость. Но теперь против него стояли уже не красные заслоны, а могучая рабоче-крестьянская Красная армия, закалившаяся в борьбе с Польшей. Весною красные проявляли слабую активность. Теперь Троцкий предписал взять Перекоп к трехлетнему юбилею существования Советской власти.
В революционных армиях, — это знали грамотные люди и в белом стане, — приказами шутить не любят.
Я осмотрел укрепления Перекопа и нашел, что для защиты Крыма сделано все, что только в силах человеческих, — писал Врангель осенью в одном из своих приказов, объявляя благодарность руководителю фортификационных работ ген. Фоку.
Это почти второй Верден, — писали газеты. — Непроходимая сеть проволочных заграждений… Глубокие окопы… Бетонированные блиндажи… Тяжелая артиллерия… Подъездные пути.
Грозные укрепления оказались только на бумаге. Инженеры обманывали Врангеля. Врангель обманывал себя и свою армию. Когда «цветные» части, отступая к югу, увидели этот второй Верден, они ахнули от изумления. Преступная ложь выявилась вовсю.
Линия жалких окопов, с обычными проволочными заграждениями впереди, но с незначительным обстрелом, никем не охранялась. Окрестные крестьяне сильно повредили эти «укрепления», раскрадывая деревянные части, как то: колья, обшивку и т. д. Тяжелая артиллерия оказалась налицо, но не могла стрелять, так как не имела пристрельных данных, не существовало наблюдательных пунктов, и не была налажена связь между батареями.
Стояли сильные холода, но ни бараков, ни землянок не удосужились соорудить подле позиции. Войска замерзали, проклиная на чем свет стоит своих интендантов, снабжавших иностранным обмундированием одну только Красную армию.
Время едва еще перевалило за половину октября. А что же будет зимою?
Пока две рати стояли у Перекопа друг против друга, Врангель предусмотрительно начал готовить пароходы.
Так как в Крыму не хватало каменного угля, крестьяне, по распоряжению властей, стали свозить в портовые города большие запасы дров из лесных дач. Вождь не хотел повторить новороссийской ошибки Деникина и рассчитывал, в случае неустойки на фронте, увезти всю свою армию в целости за границу.
Начались бои за обладание Перекопом.
Доступ в Крым через малодоступное чонгарское дефиле защищали донцы. Но здесь красные сильно не напирали.
Мы, тыловая армия, в это время странствовали по Крыму. Донские учреждения направились от Арабата по предгорьям Яйлы в Сарабуз, железнодорожную станцию близ Симферополя, от которой идет ветка на Евпаторию. В штабе все еще находились чудаки, которые старались уверить себя, что в районе Сарабуза нам предстоит зимовка.
Блуждая по глухим деревням, то по немецким, то по татарским, мы не имели никаких сведений о том, что делается на фронте. Все внимание нашей братии сосредоточивалось на том, чтобы обеспечить себе на ночь ночлег под крышей, на день — хоть какую-нибудь еду. Татары и на самом деле были бедны и при всем своем радушии не могли накормить, как следует, голодную саранчу. Зажиточные, но кряжистые немцы, ничуть не входя в бедственное положение «спасателей отечества», категорически отказывались менять съестные припасы на ничего не стоющую «хамсу». Наиболее богатые проявляли наибольшую жадность.